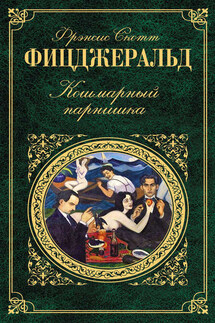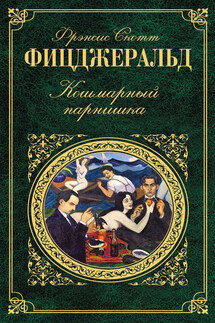Кто есть кто – и почему[1]
История моей жизни – это история непрекращающейся борьбы между желанием писать и стечениями обстоятельств, стремившихся мне в этом воспрепятствовать.
Лет в двенадцать, когда я еще жил в Сент-Поле, я писал на всех уроках – на обороте учебников географии и латинского языка для начинающих, на полях справочников, таблиц и задачников. Через два года на семейном совете было решено, что существует единственный способ заставить меня учиться: отправить в частную школу-интернат. Тут они допустили промах. Интернат отвлек меня от писательства. Я решил, что буду играть в футбол, курить, поступлю в колледж и вообще стану заниматься всяческой ерундой, не имеющей ни малейшего отношения к главному в жизни – каковое, понятное дело, состояло в правильном сочетании диалогов и описаний в рассказах.
Впрочем, в новой школе у меня появилось новое увлечение. Я посмотрел музыкальную комедию «Квакерша»[2], и с того дня мой письменный стол ломился от либретто Гилберта и Салливана и десятков тетрадей, в которых роились микробы десятков музыкальных комедий.
К концу последнего школьного года я наткнулся на совершенно новенькое либретто, которое лежало на крышке рояля. Спектакль назывался «Его сиятельство султан», на титульном листе было написано, что комедию собираются поставить в клубе «Треугольник» Принстонского университета[3].
Этого мне оказалось достаточно. Вопрос, в какой университет поступать, был решен. Принстон – и ничего другого.
Весь первый учебный год я посвятил написанию оперетты для клуба «Треугольник». В результате я провалил экзамены по алгебре, тригонометрии, начертательной геометрии и гигиене. Однако клуб «Треугольник» принял либретто к постановке, а прозанимавшись весь душный август с репетиторами, я умудрился удержаться в университете и на следующий год, а еще мне дали роль хористки. Потом разразилась катастрофа. У меня начались серьезные неприятности со здоровьем, в декабре пришлось оставить занятия и двинуться для поправки на Запад. Последнее, почитай, воспоминание перед отъездом было следующее: я пишу последний номер для новой постановки «Треугольника», лежа в постели в изоляторе с высокой температурой.
На следующий учебный год, 1916/17-й, я вернулся к занятиям, но благополучно успел возомнить, что единственная стоящая вещь на свете – это поэзия, оттого в голове у меня звенели строфы Суинберна и страхи Руперта Брука[4], и всю весну я ночи напролет производил на свет сонеты, баллады и рондели. Я где-то прочитал, что поэт не может считаться по-настоящему великим, если до двадцати одного года не напишет ни одного великого стихотворения. У меня оставался лишь год в запасе, а помимо прочего, мне того и гляди предстояло уйти на войну. Прежде чем сгинуть на фронте, я должен опубликовать хотя бы один сборник бесподобных стихов.
К осени я оказался в учебном лагере офицеров-пехотинцев в Форт-Ливенворте, успел бросить поэзию и загореться свежей идеей – теперь я сочинял бессмертный роман. Каждый вечер, припрятав блокнот под «Простые задачи для пехоты», я абзац за абзацем переносил на бумагу несколько отретушированную летопись своей жизни и своего воображения. Вчерне были закончены двадцать две главы, четыре из них – в стихах; две главы были готовы полностью; после этого меня засекли и унасекомили. Писать во время учебы стало нельзя.
Осложнение было существенным. Жить мне оставалось три месяца – в те дни все пехотные офицеры считали, что жить им осталось три месяца, – а я так и не оставил в мире никакого следа. Впрочем, мое всепоглощающее писательское рвение какой-то там войне было не остановить. Каждую субботу в час дня, покончив с недельными трудами, я чуть не бегом бежал в офицерский клуб, устраивался в уголке зала, заполненного дымом, пересудами и шуршанием газет, и на протяжении трех месяцев каждый божий уик-энд валял роман в сто двадцать тысяч слов. Мне было не до правки – на это не оставалось времени. Закончив очередную главу, я отсылал ее машинистке в Принстон.
Сам я в то время жил на этих страницах, исписанных нечетким карандашом. Построения, марш-броски и «Простые задачи для пехоты» были неким расплывчатым сном. Я всей душой сосредоточился на своей книге.
В полк я уехал с радостью. Я написал роман. Пусть теперь война продолжается, если хочет. Я забыл про полифонию и пятистопники, про сравнения и силлогизмы. Я был произведен в лейтенанты, получил назначение в Европу – и тут от издателей пришло письмо, сообщавшее, что, хотя они сочли «Романтического эгоиста» самым оригинальным произведением из всех, какие попадали к ним за последние годы, опубликовать его они не могут. Текст сырой, и произведение заканчивается ничем[5].
Спустя полгода я оказался в Нью-Йорке и вручил свою визитную карточку секретарям главных редакторов семи газет, с просьбой взять меня репортером. Мне стукнуло двадцать два года, война закончилась, так что теперь я собирался днем выслеживать убийц, а по ночам писать рассказы. Оказалось, что газетам я не нужен. Секретарей послали мне передать, что я им не нужен. Один вид моего имени на визитной карточке сразу сказал им о том, что я совершенно не гожусь в репортеры.