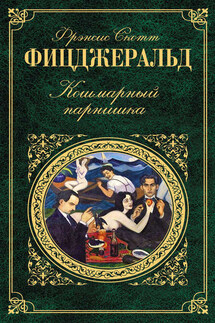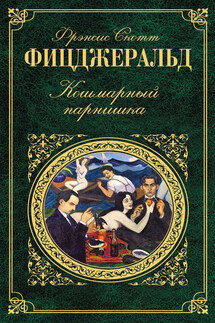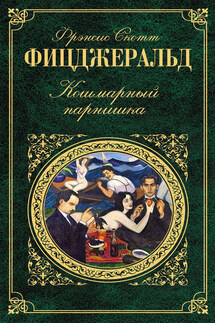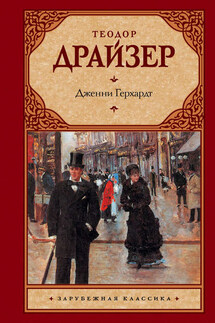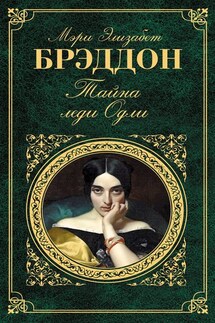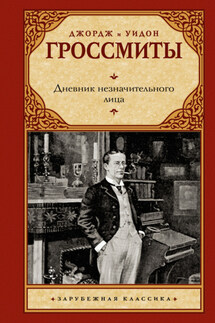С Майрой знаком, наверное, всякий, кто в последние десять лет обучался в колледжах на Восточном побережье Америки: ведь все майры вскормлены этими колледжами, как котята – теплым молочком. В юности, пока Майре лет семнадцать, ее все величают «классной крошкой»; в годы расцвета (ну, скажем, к девятнадцати) ей делают тонкий комплимент, называя исключительно по имени; ну, а потом... потом вот что: мол, «рыщет по набережным», или вообще: «а-а-а, та самая, известная на всем побережье Майра»...
В зимнюю пору, фланируя по вестибюлю нью-йоркского отеля «Билтмор», вы почти всегда найдете ее там после полудня. Обычно в окружении стайки второкурсников, которые только явились из своих университетов, Принстонского или Нью-Хейвенского, и она как раз пытается решить, где сегодня потанцевать до упаду: в «Клубе двадцати» или в Красном зале отеля «Плаза». После танцев кто-нибудь из второкурсников непременно сводит ее в театр, а прощаясь, пригласит на ежегодный бал в своем колледже, в феврале, – и тут же кинется ловить такси, чтобы успеть на последний поезд.
С нею, разумеется, проживает ее вечно сонная мамаша, они снимают небольшую квартиру на двоих, на одном из верхних этажей. Когда Майре уже почти двадцать четыре, она имеет обыкновение припоминать всех этих милых юношей, за кого могла бы выскочить замуж, но повздыхает немного да и удвоит свои старания. Только, я попрошу вас, давайте без комментариев! Это же она дарила вам собственную юность; она благоуханным дуновением летала по всем этим бальным комнатам, услаждая столь многие взоры; это она вызывала романтические порывы в сотнях сердец юных язычников – кто после этого скажет, что ее не стоило принимать всерьез?
Ну, а та Майра, про которую наш рассказ, обязательно займет особое место среди прочих майр. Горю желанием поскорей выложить все как есть.
В шестнадцать лет она еще жила в большом доме в Кливленде, посещала школу в Дерби, в Коннектикуте, и тогда же стала появляться на танцевальных вечерах старшеклассников в частных школах – да и на студенческих балах. Годы войны она решила провести в Минском Смит-колледже, но в январе, на первом же курсе, вдруг по уши влюбилась в молодого офицера-пехотинца, с треском провалила зимнюю сессию и бесславно ретировалась к себе в Кливленд. А юный офицер уже через неделю приехал следом за нею.
Когда же Майра почти поняла, что все-таки его не любит, офицер получил приказ отправляться на фронт, в Европу, и чувства ее вспыхнули с новой силой, она даже ринулась вместе с матерью в порт – прощаться. Целых два месяца она писала ему каждый день, потом два месяца – раз в неделю и вот, наконец, написала еще только один разок. Это, последнее, письмо он так и не получил: в то дождливое июльское утро его голову прошила пулеметная очередь. Может, оно и к лучшему, ведь письмо гласило: то, что между ними было, ошибка, что-то ей подсказывает, что они не были бы счастливы – и так далее и тому подобное...
Это самое «что-то» носило сапоги и серебряные «крылышки», отличалось отменным ростом и смуглой кожей. Майра была уверена, что вот оно, наконец-то, то самое, но поскольку в середине августа, во время гонок на треке Келли, двигатель его гоночной машины расплющил грудную клетку этого счастливца, она даже не успела в этом как следует убедиться.
В общем, она снова отправилась на Восточное побережье, несколько похудевшая, побледневшая, что, впрочем, было ей к лицу, хотя теперь под глазами появились тени. И весь 1918 год – год перемирия, она оставляла свои окурки в небольших фарфоровых пепельницах заведений по всему Нью-Йорку: и в «Полночной шалости», и в «Кокосовой роще», и в Пале-Рояле. Ей уже стукнул двадцать один год, и в Кливленде начали поговаривать, что пора бы матери заставить дочку вернуться домой – а то Нью-Йорк, ясное дело, ее вконец испортит.
Ну вот, хватит с вас и этого. Давно пора приступить к рассказу.
* * *
В один из сентябрьских вечеров Майра отменила поход с кавалером в театр ради того, чтобы встретиться за чашкой чая с одной юной дамой, та недавно вышла замуж, и теперь ее звали миссис Артур Элкинс – во времена учебы в колледже они вместе снимали комнату.
– Как бы мне хотелось, – мечтательно произнесла Майра, когда они обе грациозно устроились в креслах, – быть, к примеру, сеньоритой или мадмуазель, или... в общем, что-то в таком роде. О господи! Ну и какой у нас тут выбор – только замуж да на покой?
Лайле Элкинс были хорошо знакомы это томление и неодолимая тоска.
– Никакого, – невозмутимо ответила она. – Вот на этом и сосредоточься.
– Видишь ли, Лайла, меня, похоже, уже никто не способен увлечь, – призналась Майра, наклоняясь чуть ближе к подруге. – У меня столько их было, я теперь, даже когда в первый раз целуюсь, невольно думаю: интересно, а скоро он мне надоест? И само чувство больше не захватывает, как бывало...
– Сколько тебе, Майра?
– Прошлой весной двадцать один стукнуло.
– Что ж, – самодовольно посоветовала Лайла, – бери пример с меня: ни в коем случае не выходи замуж, пока окончательно не перебесишься. Учти: от многого придется отказаться...
– То-то и оно! Но меня ужасно угнетает это совершенно бесцельное существование. Я порой ощущаю себя абсолютной старухой, представляешь? Прошлой весной в Нью-Хейвене кавалеры, с которыми я танцевала, вдруг показались мне совсем мальчишками, – а еще я там услышала, в дамской комнате, как одна девица другой говорит: «Вон Майра Харпер! Уж восемь лет здесь ошивается». Конечно, она года на три ошиблась, но все равно, от ее слов у меня даже эти дела начались...