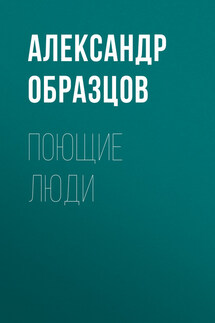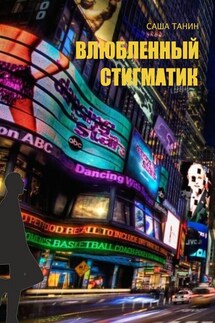Он никогда не успевал завтракать. Его соседи по комнате вставали по будильнику, и он слышал сквозь сон, как они пьют прямо из горлышка купленный с вечера кефир, включают радио с идиотской песенкой «на зарядку, на зарядку, на зарядку станови-и-ись!», от которой вполне можно было сойти с ума, если бы по воскресеньям утренний сон не был всеобщим, затем громко кричат на прощанье: «Вставай, живой труп, мы уходим!» Даже это, последнее, было донельзя затасканным и, может быть, возмущение, которое оно в нем вызывало, и выдавливало сон окончательно. Но он выдерживал еще минут пять.
Затем вскакивал, лихорадочно одевался, бежал с полотенцем в туалет, на ходу зашнуровывал туфли, бросал в портфель тетради без разбору, толстенный «Англо-русский словарь» и хлопал дверью.
Щелкал замок.
Он бежал через две, три, даже четыре степуньки со своего шестого этажа, затем чертыхался, бежал обратно, нервно шарил плоским ключом в замке, врывался в комнату, распахивал шкаф и из кармана пиджака выгребал мелочь, а из внутреннего кармана – студенческий билет, где он хранил купюры достоинством не выше 10 рублей, потому что выше у него никогда не бывало.
На тротуар он выскакивал с сумасшедшими глазами и искал вдали по проспекту автобус «ЛАЗ», который должен был назло ему отойти с остановки за полквартала сзади.
И он отходил.
В таком случае он не спеша шел и закрывал глаза от бешенства, потому что следующий автобус, опять же назло ему, не появлялся еще десять минут.
Затем он ехал, уже безразлично держась за поручень, потому что сделал все, что мог, и движение автобуса абсолютно не зависело от его эмоций.
На факультет он мчался, на ходу расстегивая пальто, пряча шарф в карман, в гардеробе парализовывал старушек взглядом и рвал из рук номерок.
Затем подбегал к доске расписаний занятий и никак не мог найти номер аудитории, потому что за два года обучения ни разу не удосужился переписать расписание в записную книжку, которой, кстати, у него не имелось.
Последний бешеный галоп по лестнице, коридор или два коридора бегом на цыпочках, от чего, как он ни удивлялся этому каждый раз, топот слышался не меньше и – белая дверь с аккуратным до издевки, медным, в форме эллипса, номером на притолоке.
Здесь он задерживал дыхание, неестественно складывал губы в виновато-простоватую полуулыбку, нагонял дымку на глаза и тихонько скрипел дверью.
И все это переменилось.
Стоило ему один раз встать вместе с соседями по комнате, выпить припасенную бутылку кефира с двумя булочками выборгской сдобы, стоило выйти из общежития и, вспоминая вчерашний фильм: «А помнишь, какая у него рожа была, когда тот ему говорит…» хохотать во всю мощь девятнадцатилетней глотки, стоило ему прорваться в автобус и оглянуться за заднее сидение, как он понял, что будет вставать рано и пить припасенную бутылку кефира и в это самое время, в 8 часов 15 минут по-московскому, будет садиться в автобус и оглядываться на заднее сидение.
Она была в коричневой меховой шапочке и в коричневом пальто с коричневым меховым круглым воротничком из шкуры однородного морского ли, речного или сухопутного животного. На коленях у нее лежал черный блестящий портфель. Глаза ее смеялись, а губы были такие алые, что в салоне пахло яблоками. Его толкнули в спину, но он вцепился в поручень и встал боком к пассажиропотоку. Все стихло.
Пропел мотор автобуса, и люди стали петь. Они пели мучительно-сладко и разнообразно. Две пожилые красивые женщины пели о муже-болельщике одной из них, кондукторша пела о прекрасных билетах, соседи по комнате пели о вчерашнем фильме и зачетах, мотор пел басовито и ликующе, забираясь все выше и выше.
И только она молчала. Потому что все пели для нее.
Мотор сделал паузу, завизжали двери и вокруг стали толкаться. Ее заслонила чья-то синяя спина, и он возненавидел синий цвет. Возненавидел синюю ткань и людей в пыжиковых шапках. Полюбил коричневый цвет и черные блестящие портфели. В муках ненависти и любви сменились четыре действия, четыре раза визжала дверь. На пятый коричневая шапочка мелькнула на выходе, и стало пусто.
Двадцать три дня, включая воскресенья, он садился в автобус в восемь часов с копейками. Он, как бурав, прошивал автобус по проходу до кабины водителя. Ее не было.
На двадцать четвертый день, в пятницу, в снежное утро, он ослеп.
Оглянувшись на заднее сиденье, на предпоследнее сиденье и на сиденье напротив предпоследнего, он ввинтился плечом по ходу движения и слышал: «Послушайте!..»
Глаза их встретились.
Он сказал: «Извините…»
И ослеп.
Поэтому весь день он двигался ощупью в темном, как чулан, мире. Вместо людей были медузоподобные тени, дома странно рушились в небо, в ушах не смолкала какафония слов и скрежета земной оси.
Мир рушился на него до понедельника.
Она снова сидела на заднем сидении, видимо, ездила от кольца. Он не знал, где, как и когда извиниться за пятницу и ненавидел свое лицо. Ему казалось, что он урод, и с ним не то, что разговаривать, а и смотреть на него противно. Так он возбуждал себя и смотрел на нее вскользь, чтобы она не заметила его уродливого лица и нахального взгляда. Короче, чтобы ей не было противно посмотреть на него даже мельком.