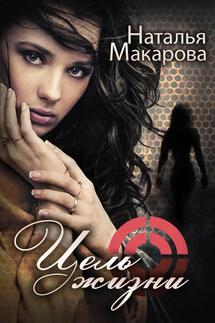Он родился слабым. 2980 граммов, чуть больше недоношенного, хотя провел в материнском чреве несколько недель сверх положенного срока. «Никаких оснований для беспокойства, – уверяли врачи, – он все наверстает».
Но его кожа оставалась белой и прозрачной. Она казалась нежней, чем у других младенцев. На висках, подбородке и руках просвечивали синие жилки. И это уже в первые недели жизни, когда обычный ребенок превращается в крепкого, упитанного карапуза.
Он быстро уставал, поэтому плакал не так пронзительно и значительно меньше, чем другие дети. И трех-четырехлетним, и позже, пока его ровесники на игровой площадке на Боуэн-роуд или на пляже в Рипалс-Бей с визгом карабкались по лесенкам и барахтались в воде, не зная, куда девать энергию, он сидел в сторонке на песке и молча наблюдал за ними. Или залезал к отцу на колени и спал, прислонив голову к его плечу. Он как будто чувствовал, что отпущенное ему время невелико и нужно экономить силы. «Никаких оснований для беспокойства, – повторяли врачи. – Здесь нет общих правил, каждый ребенок – индивидуальность». Он выглядел необыкновенно хрупким. Тоненькие ножонки и ручонки, на которых как будто совсем не наросло мышц, и в шесть лет оставались такими легонькими, что отцу не составило бы труда сгрести ребенка в охапку и подбросить в воздух, словно куклу.
В школе он был тихоней. Когда энергичная миссис Фу задавала вопрос классу, он почти всегда знал ответ, но не подавал вида, пока его не спрашивали. На переменах больше общался с девочками или читал где-нибудь во дворе на скамейке. А после обеда, когда другие мальчишки отправлялись играть в футбол или баскетбол, шел в балетную студию. Родители были против этого его увлечения. Он ведь и без балета был отщепенцем. Одиночкой, без единого близкого друга. Но долго их упрашивать не пришлось. Отразившееся на лице безмолвное разочарование было убедительнее всякой просьбы, и отец уступил.
Спустя пару недель мальчик впервые пожаловался на боль в руках и ногах, в ногах особенно. Преподаватель балетной студии счел это нормальным. «Все начинающие танцоры мучаются чем-то подобным, – уверял он. – Ничего удивительного, тем более при таком рвении». Отец решил, что мышцы ноют от танцев, с непривычки. Знакомый ортопед окончательно его успокоил, объяснив недомогания возрастными изменениями. «Кости вытягиваются, ведь мальчик растет. Это пройдет, беспокоиться не о чем». Но потом к ломоте в костях добавилась усталость, загадочным образом подтачивавшая силы мальчика. Он засыпал на уроках, никак не мог сосредоточиться и теперь проводил вторую половину дня по большей части на диване в гостиной.
Возможно, если бы не балет, родители обратились бы к врачу раньше. Или серьезнее отнеслись бы к жалобам сына, будь он сильным, энергичным мальчиком, у каких малейшее недомогание или потеря в весе тут же бросаются в глаза. Повели ли они себя легкомысленно? Ведь ни отец, ни мать не могли даже сказать толком, когда именно начались боли. Мередит вообще ничего такого не помнила. Вероятно, в то время она была в Лондоне, Нью-Йорке или Токио. Во всяком случае, не в Гонконге.
– Но ты, Пол, ты ведь должен это знать.
Она заглянула мужу в глаза. Доктор тоже повернул тогда голову в его сторону. Но Пол молчал. Он не помнил.
В конце концов, не все ли равно – так повторяли онкологи при каждом удобном случае. Пол так и не понял, было это правдой или они успокаивали таким образом его совесть, чтобы не мучила вдобавок ко всем несчастьям. Раннее распознавание не имеет в случае лейкемии никакого значения, в отличие от других разновидностей рака. Врачи повторяли это снова и снова, с каким-то подозрительным оживлением, как будто предполагали в Поле чувство вины, которое непременно нужно заглушить. Как будто имели на это право. Ведь даже если они его не обманывали и раннее распознавание болезни не изменило бы ничего ни в лечении, ни в прогнозах и ни на йоту не увеличило бы шансы мальчика выжить, что это означало на самом деле? Утешение? Как родители Пол и Мередит Лейбовиц оплошали, и это не имело смысла оспаривать. Это они, и никто другой, отвечали за здоровье и благополучие своего сына и не уберегли его от смертельной болезни.
– Вам не в чем упрекать себя, – сказал онколог доктор Ли вскоре после постановки диагноза. – Вините кого угодно – Бога, судьбу, жизнь, наконец, – только не себя.
Мередит поняла эти слова слишком буквально и за пару месяцев как будто избавилась от угрызений совести. Но только не Пол. Он не верил ни в Бога, ни в карму, ни во что другое, на что мог бы переложить ответственность за случившееся.
В это раннее утро он стоял у окна и смотрел во двор. Окна больницы выходили на стадион, поделенный на несколько футбольных и теннисных площадок. Спортсмены, пытаясь извлечь максимальную пользу из этих нескольких часов до наступления невыносимой жары, нарезали положенные круги. Тяжелые тучи, нависавшие над городом весь вчерашний день, рассеялись, открыв безупречно голубое небо. Муссонный ливень вымыл из воздуха смог, и горизонты сияли чистотой, что редко бывает в Гонконге. Пол отчетливо видел Пик Виктории, стройную башню гонконгского офиса Международной финансовой корпорации и здание Банка Китая. Между небоскребами в Восточном Коулуне и Хунхамом серебрилась полоска моря, где уже крейсировали не меньше десятка паромов, буксиров и катеров. На надземных высокоскоростных трассах Гаскойн-роуд и Южная Чатем-роуд машины стояли в пробке. Пол вспомнил пляж в Рипалс-Бей, на котором нередко проводил в выходные с Джастином такие же утренние часы. Мередит еще спала, а они уже строили песчаные замки. Вдвоем, отец и сын. Овеваемые влажным тропическим ветерком и связанные узами взаимного понимания, которое не требовало слов. Джастин бросался в отца комьями ила, а потом, счастливые, оба возвращались домой. К заспанной Мередит, которую вечно раздражали их утренние прогулки и которой требовалось время и несколько чашек кофе, чтобы понять и разделить их радость.