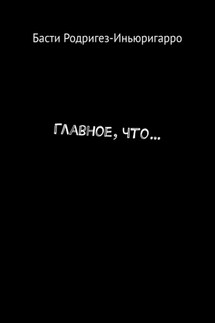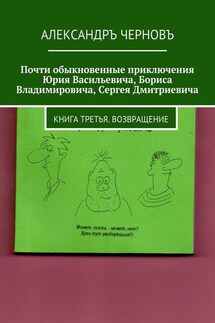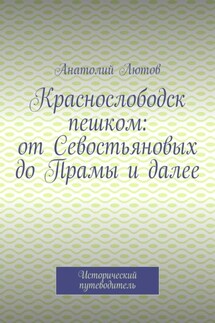Она никогда не видела железной дороги – только серый забор, за которым свист и стук обещали движение, надпись «Пригородные кассы» и стеклянные двери станции, где по ночам отражались её белокурые хвостики, розовое платье, буквы поперёк груди: «ГРОМКО КРИКНЕМ БОЛЬНОМУ ГОРЛУ – НЕТ!», рот, разинутый в этом самом крике – не ребёнок, а заглядение.
Глянцевая бумага вспухала, наливаясь ненавистью к оригиналу, способному захлопнуть рот, и ко всем, кто волен двигаться. Прохожие не замечали, что избегают встречаться взглядом с девочкой на стене аптеки.
***
Тусклое небо воспаляется, напоминая срез копчёной грудинки: розовое мясо, прослойки жира, блестящая рыжая корка внизу. Надо торопиться, поймать краткие сумерки, нырнуть в метро.
Рюкзак даже не звенит – так плотно утрамбованы баллончики с краской: красной, чёрной, белой. Суть – в количестве, не в разнообразии.
Он падает на сиденье в углу вагона, придавив колени рюкзаком, чтоб не сбежать, а кружиться на карусели кольцевой линии, сколько потребуется.
Последний месяц календарной зимы подгоняет закат в час пик: к железному грохоту и тормозному визгу добавляется толпа. Наушники – непозволительная роскошь. Плеер припрятан в кармане для часов свободы.
Он прикрывает лицо капюшоном и ныряет в одуряющие шумы. Круг за кругом ученик старших классов, обладатель имени, дневника и школьного проездного, уходит в небытиё. Ему уютно в грохоте железных барабанов, под неумолимой, как шесть футов земли, тяжестью рюкзака. Но просыпается Отпускатель.
Голос, объявляющий станции, не достигает мозга, но ему это и не нужно, он – сжатая пружина.
Двери распахнуты. Пружина распрямляется.
Он – на платформе, провожает глазами хвост поезда, идущего на последний круг, щурится, оглядывая подземный собор: высокие своды, безоконные витражи. Переход на серую ветку.
– Ночью все ветки серы, – усмехается он.
Теперь не нужно вводить себя в транс стуком колёс – пружина снова сжата, путь лежит на север.
Его выбрасывает из вагона раньше, чем он ожидал. Сначала выбор не велик: выход один. После стеклянных дверей, исцарапанных до непрозрачности, возможности множатся.
Он выходит из-под земли, вдыхает полуночный воздух. По правую руку – торговый центр провинциального вида и неказистые, одноэтажные магазины: «Всё для дома», «Одежда из Италии», «Осетинские пироги», аптека, по левую – железнодорожная станция. Форпост Савёловского вокзала.
На стене «Одежды из Италии» мёрзнет дамочка в кружевном белье. Отпускатель смотрит ей в глаза. Не ошибся: осознала положение, опечалена.
Рисовать он не умеет, и не пытается, поэтому даже с точки зрения самых терпимых горожан не попадает в категорию «уличные художники» – обыкновенный бездельник, «уродующий облик города».
Ради томно изогнувшейся дамочки он извлекает белый баллончик. Она – мирная, уснёт с радостью. Краска ровно ложится на ноги в чулках.
В других случаях он начинает с глаз. Достаёт баллон чёрной краски и шмяк в лицо – как выстрел.
Чёрная завеса достаётся «буйным», отравляющим пространство на километры вокруг, но не желающим засыпать: чего стоила домохозяйка с банкой майонеза в руках, круглым лицом, зверской улыбкой от уха до уха и страшными, голодными глазами – хуже ведьмы из пряничного домика.
Двухмерные копии от оригинала не зависели. Иногда на билборде над автобаном (морока и риск свернуть шею) лицо оживало, а его «приземлённые» двойники оставались картинками, а иногда чёрное заточение настигало десятки одинаковых лиц.
Отпускатель любит чёрный – сам закутан в чёрное с головы до ног, и каждое «заточение» требует сил: разбрызгивая чёрную краску, он оставляет часть себя сторожить отвратительное двухмерное создание.
Только одним цветом он не пользовался ни разу, но баллон красной краски неизменно попадал в рюкзак. На всякий случай.
***
Улыбаясь дамочке напоследок, он окутывает белым облаком её голову. Он доволен собой. Можно вешать рюкзак на плечи и топать домой, пешком – метро уже закрылось. Летом после охоты он часто ночевал в скверах, но зимой правило одно: хочешь жить – шагай.
Он идёт вдоль магазинов, глядя под ноги, и боковым зрением ловит надпись: «ГРОМКО КРИКНЕМ БОЛЬНОМУ ГОРЛУ – НЕТ!».
Его всегда раздражали слоганы в повелительном наклонении: «Попробуй!», «Хочешь?», «Подключись!». Императив в хоровой аранжировке – гораздо хуже. Он смотрит на рекламу, готовый плеваться ядом, и захлёбывается встречным потоком.
Рюкзак мигом сброшен под ноги, чёрный баллончик зажат в ладони -рефлексы выработались за несколько лет.
Вооруженный, он разглядывает двухмерную: не шуганная, не боится подрисованных усов или груди в виде двух скобок, потому что дурных примеров перед глазами нет.
– Свезло так свезло, – говорит Отпускатель, оценив открытый рот и задорные хвостики. – Я бы тоже обозлился.
Сочувствуя погребённым под чёрной краской, можно с ума сойти. Ни к чему это.
Трёхмерный двухмерного не разумеет – подозрительная мысль, будто подброшенная злой девочкой на плакате.
– Ты не рада здесь торчать, – тянет он, распыляя краску. – Каждый беглый взгляд заново пришпиливает к стенке. Буквы поперёк груди… На трёхмерных тоже всегда что-нибудь написано. Родился – хлоп! Этикетка: девочка или мальчик. Имя в документах. Потом другие надписи: учитель, PR-менеджер, школьник, безработный. Но мы-то можем найти тёмную комнату и представить, что надписей нет. Вот это я тебе и устрою.