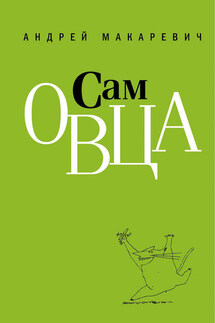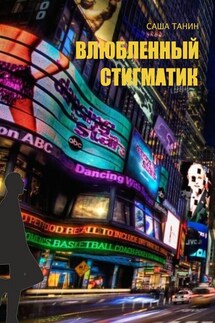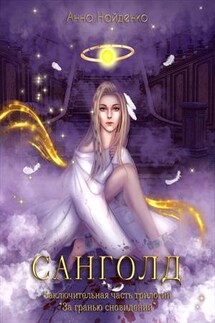Первое лирическое отступление
Господи Боже, до чего же неловок и хрупок человек, как тонка и прозрачна его кожа, как ненадежны сочленения и суставы – и как же он при этом беспечен, заносчив и самонадеян! Еще пару часов назад вы полагали себя полным хозяином собственной жизни, а сейчас стоите, дрожа, в больничном коридоре и с запоздалой осторожностью поддерживаете левой рукой то, что совсем недавно было вашей правой, а теперь она чужая, при малейшем движении гнется не там, где должна, и вы чувствуете, как внутри нее что-то противно задевает друг о друга и всякий раз при этом холодный пот выступает у вас на лбу и тоненько бежит по спине – не от боли, нет, – от ужаса перед внезапной своей беспомощностью. И вас ведут на рентген, а вы уже знаете, что там случилось – когда что-то действительно случается, ощущения не обманывают. И вот на черной пленке ваша прозрачная ручка, и цыплячья косточка внутри нее сломана ровно пополам, и вокруг маленькие крошки. А дальше вам облепили плечо и руку противным холодным гипсом, он нагрелся, застывая, на шее у вас повисла неудобная незнакомая тяжесть, и – на выход, ждать, когда освободится место в палате. Но вы не уходите, потому что совершенно невозможно вернуться в ту, нормальную жизнь в таком виде и состоянии даже на время, и вы мечтаете только об одном – чтобы все, что с вами должны здесь проделать, началось и кончилось как можно скорее. Поэтому обреченно бродите туда и обратно по коридору, глядя в больничные окна – там слякоть, голые деревья, проезжают грязные машины, идут озабоченные люди и не ведают своего счастья.

А знаете, чем пахнет больница? Во-первых, чем-то, чем наводят чистоту, но не бытовую, человеческую, а после того, как кто-то уже умер. Хлорка, карболка? А еще – столовой пионерлагеря: перловый суп, подгоревший лук, маргарин. А еще – тем, чем пахнет в кабинете зубного врача: это смесь запаха то ли спирта, то ли эфира с запахом человеческого страха. А мимо стремительно проходит главный врач, и еще утро, а у него уже усталое лицо, и вдруг ловишь себя на том, что специально торчишь в коридоре у него на пути, чтобы он тебя увидел и поскорее положил в палату, а это глупость – койка от этого раньше не освободится, и все равно торчишь, потому что лечь хочется немыслимо, и когда он проходит, пытаешься поймать его глаза, и не получается – он про тебя помнит, но не тобой занята сейчас его голова – вас тут много, а он один.
И вот наконец койка свободна, но это ты по старой памяти думал, что взлетишь на нее, как птица, и лежать будет удобно, и хотя над ней висит специальная ручка, как в трамвае, для здоровой руки – карабкаешься на нее медленно и неуклюже, а когда вскарабкался – оказалось, что лежать совсем невозможно: нет такой позы, чтобы твоей каменной руке стало удобно, и вот тут она начинает болеть. Начинает уверенно, не спеша, с расчетом на длинную дистанцию. И проваливаешься в какой-то липкий черно-белый полусон, где нет ни времени ни мыслей, и только бывшая твоя рука, пульсируя на острие боли, не дает отплыть от убогого причала реальности.
Вечером приходит маленькая круглая медсестра. Она несет на подносике, как официант в ресторане, твои уколы. Она хохотуха, и вдруг понимаешь, что это она не чтобы тебя утешить, а просто у нее такой характер, и от этого почему-то становится легко.
И совсем уже легко становится утром, когда тебя переложили на каталку, накрыли простыней и везут по коридору в операционную, это совершенно новое смешное ощущение, тебя так еще ни разу не катали, ты едешь, как торт на праздник, и больничные лампы пролетают над тобой, и больные в коридоре заглядывают в твою каталку, как в блюдо – кого это там повезли, и вообще разница только в том, что везут тебя головой вперед. Везут уверенно и быстро, и ты совершенно успокоился, потому что с этой минуты от тебя уже ничего не зависит. А еще потому что во всех движениях врачей ощущается безошибочность, граничащая с автоматизмом – это у тебя все пока впервые, а у них каждый день такой, значит, правда, ничего особенного. А операционная недалеко, и неясно, за что тебе такая честь – прокатиться на тележке, и немножко неловко, и предлагаешь дойти самостоятельно. Смеются – нельзя.
И вот операционная наехала на тебя, знакомый уже врач – ты узнал его по глазам, на всех повязки – он шутит, над тобой огромная космическая лампа, все очень торжественно. И даже мысль о том, что сейчас этот чужой тебе человек полезет маленьким острым ножичком внутрь тебя, живого, не пугает. Интересно только, как ты будешь засыпать. Тебя уже однажды в жизни усыпляли наркозом, и ты тогда не заметил, как уснул, и сейчас изо всех сил стараешься не пропустить это мгновение. И все равно ничего не выходит, и ты уже в палате, все кончилось, тебя перекладывают на твою койку, и тебе хорошо и весело, потому что из всех ощущений боль возвращается последней. Рука твоя поверх гипса забинтована, оттуда торчит коктейльная трубочка, на нее надет пластмассовый стакан с крышкой, туда из трубочки капает что-то коричневое. Ты представляешь, как эта трубочка уходит под бинтами в самую сердцевину твоей руки, и тебе становится нехорошо. Лучше не смотреть на нее. Но! Тебя починили! Этот доктор залез внутрь тебя и сделал что-то совершенно тебе непонятное – все починил! И теперь твое возвращение к жизни – только вопрос времени! И вот тут хочется есть.