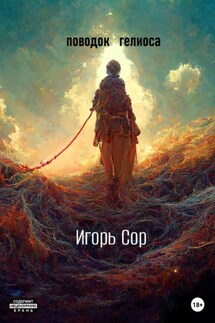У всего на свете есть своя история. Вам лишь нужно её уловить. Найти нечёткие, уплывающие из пальцев зыбкие крохи следов. В пустой жестянке, с грохотом прокатившейся на треснувшем тротуаре. В вожделеющей линзе камеры. В истрёпанной улыбке на лице безымянной матери. В запутанных дорожках кровавых капель на кафеле. Вы найдёте её. Мою историю.
Такой какая она есть.
Сколько помню всегда был один. Не то одиночество, о котором говорят, когда нужно привлечь внимание. Другое. Штучность. Будто, когда работал конвейер по твоей сборке что-то пошло не так и часть деталей просыпалась с ленты к ногам уборщика в серой робе, он лениво смёл весь этот мусор в шуршащий целлофановый пакет затем вышел за дверь с табличкой «Только для персонала». И получилось, что получилось. Внешне неотличимая от прочих, но бесконечно испорченная болванка человеческого мира. Мира больших надежд. Мира больших ожиданий и странных сказок.
Я всегда любил сказки. В детстве мама много читала мне. Одну я очень хорошо помню. Шесть лет прошло, с тех пор как он угас, а я всё ещё как наяву слышу её голос.
– То были смутные злые времена… На край опустился туман войны, и волки пели о скором приходе луны. И мороз расписывал окна голодными клыкастыми узорами.
Дверь отворилась, худой мужчина с потухшими глазами наступил на прямоугольник хрустящего света. В сухих мозолистых ладонях были зажаты ладошки поменьше. Та, что слева крепилась к девочке тринадцати лет. Та, что справа к мальчику восьми.
Они уходили в лес, чтобы не найти дороги назад. Девочка знала это. Она прочитала всё по золе. В которой сгорела последняя щепь их муки.
Мальчик о чём-то догадывался, но гнал от себя эти мысли. Ведь Смерть ещё ни разу не улыбалась ему.
– Страшно?
– Нет…
– Тогда почему же ты так сильно дрожишь?
– Я…
– Я боюсь, что они найдут дорогу домой…
– Правда? – Мягкое удивление гладит мою щёку – Но почему?
– Потому что… Потому…
Потому что чёрный бор трещит там откуда они начали свой путь мам… Ответил бы, не споткнись я о корни своих мыслей.
Потому что они, дети, улыбались мне тогда глядящему на них со стороны. И в улыбках этих не было ни капли света.
Сказки, которые видел я всегда были куда злее и глубже, чем нужно. Я видел свои сказки в глазах других людей. В их поступках. В их желаниях. В их тени роились осами скрипучие голоса. Рассказывающие мне чужие секреты. Маленькие серые тайны. Неспособные ничему научить. Не несущие ничего кроме грязи. Никогда не заканчивающиеся хорошо.
Я всегда был один. Но никогда в одиночестве. Меня окружали чужие истории.
Кассовый аппарат пробивал очередное желе. Она всегда покупала их в избытке. Голоса в подсобке зловредно, желчно и прочно прозвали её желейной бабой. Красные зелёные жёлтые. Всё радуга в пластиковых фруктовых формах. На лице вечная радушная улыбка. Но я-то знал, что улыбка пришита. Видел эти нити как наяву. Видел кучи гниющих конфет по углам её пустой квартиры. И маленькую искорёженную тень. И желание коснуться её руки словно зуд сводившее нас обоих с ума.
По дороге домой я часто останавливался и гладил облезлого кота, что жил в подъезде, наплевав на запреты и таблички. Рассказывал ему про людей. Он посмеивался и сверкал единственным зелёным глазом. Он никогда не считал меня сумасшедшим. Кот любил слушать и рыбные консервы. Хотя консервы намного больше.
В тот день… Он так странно на меня посмотрел, зевнул явив вечеру обломанный жёлтый клык, и сказал, что любовь, настоящая Любовь, никогда не умирает. И что иногда ей нужно немного помочь. Иначе она сгниёт. Заживо. Затем спрыгнул с мусорного бака и исчез.
Когда желейная женщина пришла вновь. Я наконец позволил ему дотронуться до её руки. И он прошептал, одолжив мои губы
– Не надо ма, я больше не хочу…
Начальник меня уволил. Кричал на меня, кричали его щёки, его язык и его глаза, но он был далеко, голос в его животе считал цифры. Почему-то в обратном порядке. Холодным металлическим, неотвратимым темпом.
Кота нигде не было. Я оставил открытую консерву на баке. Я хотел сказать ему спасибо, но не знал за что.
Больше я никогда его не встречал. Правда однажды на перекрёстке встретил её. Она больше не улыбалась. И это было хорошо. Хороший конец редко выглядит ярко. Его так легко спутать с плохим. Но кот точно видел разницу. И я кажется тоже.
Всегда видел. Когда моя мама умирала я видел, как открываются эти двери. Двойные. На них ручки только снаружи. И я пытался их открыть. Дёргал что было силы, чтобы уйти следом. Но у ручек такие острые грани. Они навсегда меня заклеймили. Пили мою кровь и смеялись. Доктор потом сказал, что они почти выпили меня досуха. И что мне очень повезло. И что он за меня беспокоится. Но красная тень, живущая в дужке его очков, шепнула мне что доктор давно и прочно сросся с дверью. Что иногда он специально приоткрывает её, когда жалость в его голове становится тяжелее жадности в сердце.
Кот сказал, что я дурак и очень разозлился. Сказал, что дверь открывается только сама и только тогда, когда – это по-настоящему нужно. И что только дурак может обвинять дверь в том, что она открывается. Я скучаю по его непростым ответам.