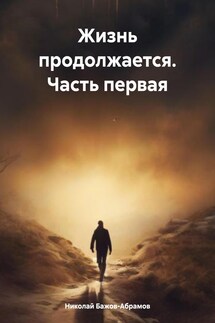Читать онлайн полностью бесплатно Николай Бажов-Абрамов - День только начался

Повесть описывает через что, проходит главный герой, находясь в плену своего внутреннего мира, стараясь разобраться в произошедшем и своем местонахождении.
Книга издана в 2024 году.
Николай Бажов – Абрамов
День только начинался.
Повесть
День только начинался. И он лежал на примятой сырой траве, которую тогда, ползая торопливо из последних уходящих сил, в спешке рвал до полной темноты, перед тем как укладываться спать, в собачьей позе, у этой говорливой с порогами, не широкой лесной речушки. Место, который застал его еще вчера, перед закатом солнца, получилось у него, конечно, в спешке. Да и к тому, и сумрак с холодком уже спешил, поглощая на своем пути, света дневного. А он ведь по началу, даже и не собирался переждать в эту ночь, у этой говорливой, не широкой речушки, с порогами, застигнутый его у этой речки и между железнодорожным полотном. До трассы, куда он так стремился, был почти уже под боком, почти рядом, по его ориентиру этой местности. Да и когда, судорожной с дрожью пробудился он в это утро, у этой говорливой речки, вначале даже долго не мог понять, почему он тут лежит, и как он тут оказался? Еще вчера, когда пробирался через этот местность: где там ползком, а где и по мере возможных сил, шел ковыляющим шагом, вдоль этого железнодорожного полотна и этой быстрой речки, с порогами, он, в одном тогда сосредоточен был в своих желаниях, до полной темноты выйти, до этой его намеченной цели, заветной. И ведь, почти же он, казалось, по ориентиру этой местности, доковылял до этой спасительной трассы. Если бы в этой спешке, вновь в радостях, не споткнулся он тогда, зацепившись носком своего ботинка, об этот трухлявый пень дерева, возможно, он бы, и правда (допустить же можно), вышел до этой опушки леса, еще затемно. Случай он, конечно, этот помнил, а если бы не вспомнил, в силу своего положения, то в ссадинах правое плечо и разорванный рукав костюма, при последнем падении, об этот трухлявый пень, ему напомнил (до сих пор там у него нестерпимо ныло), но, а что потом? Он вздрогнул, как бы от озноба – это, когда высветился неожиданно перед его настороженным взором, вновь этот, тот самый, посеребренным виском, который, с хрипотцой в голосе, – простужен он был, наверное, – просит, или все же настойчиво уговаривает, глотнуть ему тоже, из его винной большой бутылки. И всплыл теперь, как бы ни откуда, перед его настороженным измученным взором, вновь тот тамбур…
Затем, сглатывая с горечью мокроты во рту, он умолкает. Перед его застывшим взором, висит неподвижный свод светло – голубого неба, с примесью, с разорванными, с белыми просвечиваемыми островными облаками. Они в его воображениях, какое – то не такое, необычное, какой он привык видеть в своей повседневной жизни у себя в деревне. Они были сейчас, перед его часто мерцающим взором, отражением речки, видимо, светло – лазурными, и потому ослепляющими. Вот он снова выплыл в его голове. Нет, не его лицо, и не его голова, светлыми, как бы прилизанными волосами. Он это отчетливо сейчас увидел в своем воображении, потому и от этой проявленной неожиданности в его памяти, с толчком испуганно вздрогнул, когда так ярко выплыл, из веретен его памяти, его рука. И в его руке… Что это? Он вновь вздрагивает, содроганием даже, потому запоздало вновь даже хочет прикрыться рукою от этого ужаса, защитить с чем – то, как – то себя, от этого, вроде, резкого укола в грудь. После, он уже не помнил. Как он тут оказался? Нет, не здесь. Там еще, недалеко от железнодорожного полотна, где он пришел в себя. И лежал он, под (бога, что ли начать верить ему), у этой, густо – плотной, полтора метровой высоты ивы. Теперь, если проследить внимательно хот его видений… да, он сейчас, тут… все еще лежит на примятой сырой траве, не пода леку от этой говорливой, с порогами быстрой речушки. Но ведь он? Как это ему понимать? Он, если все же логически рассуждать, должен был находиться еще в тамбуре, у того пассажирского поезда, на котором он ехал из Сургута, до своей конечной станции Нурлат. Значит? Да и память, наконец, теперь, ему подсказывает, припоминается; он тогда вышел в шумный тамбур, вместе с этим человеком. А и, правда, теперь он это отчетливо вспомнил. Ему тогда, и правда, было тоскливо, сидеть в купе. Наверное, все же за однообразие, пейзаж за окном, мелькающий, перестук колёс, на стыках рельс, под вагоном, и эти с холодком отдающие стены в купе. А предложение покурить в тамбуре, он, все же, какое – то действие совершает, не сидит, тупо уставившись в окно, невольно прислушиваясь перестуку колес, на стыках рельс, под его вагоном. Потому он и, радостно соглашается с предложением этого с проседью седого, в висках, Петра Гавриловича, соседа и попутчика по купе, у которого, как он помнил, был еще хрипловатый простуженный голос. Кашлял он еще часто, подставляя к своему рту, интеллигентно кулак. Да, так и есть. Но, а потом… он его, выходит… после резких уколов в грудь, когда он, с его настойчивого уговора, с неохотой, чтобы его только не обидеть отказом, приложился доверчиво с его бутылки, этого вина. Получается, он в это время, и всадил в его грудь остриём этой отверткой; затем, может сразу, а может и после, когда поисследовав все его карманы, открыл дверь тамбура, вытолкнул его на ходу из поезда… Но, не понятно ему, все же. Почему, ну почему, выпадая с движущего поезда, он еще жив? Нет, надо ему скорее прийти в себя, да и, за одной, выкурить сигарету, успокоить себя, а затем, по возможности, попробовать все же выковырнуть еще, из памяти головы, если это еще возможно, что же на самом деле с ним происходит сейчас, или уже произошло? Так, где он этот портсигар? И где сигареты? Вспомнил. В кармане у него всегда, внутреннем, в пиджаке. Давняя привычка еще из армии. И пока он подстраивался, как ему еще вытащить из этого кармана пиджака, этот его портсигар, когда в это время, между промежутками деревьями, пробивающийся утрешний свет, слепит его воспаленные до болей глаза. Да ему еще кажется, рядом, недалеко от него, искрящаяся от лучей солнца вода, с поверхности говорливой речки, играет, будто, с ним сейчас какую – то странную игру. Перемигивается с говорливо журчащих порогов. И потому ему сейчас, да и сам он это понимает, не нужно по напрасно дёргать себя: причиняя снова боль, движением своим. Потому он, с осторожностью, затравленно вертит по сторонам голову, озираясь, но, не меняя еще позу своего тела. Сейчас он, от того падения, от той торочащийся из земли пня, руку даже левую не может пошевелить. Там была такая адская, ноющая, не прекращающая боль, как в тот раз в тамбуре, когда тот ему, силой несколько раз, всадил чем – то острием в грудь. Даже сейчас, это вспоминание, выдавливал с глаз у него слезы. Но тогда, зачем этот портсигар стал нужным ему сейчас? «Да и зачем мне сигареты?» Хочется ему это вслух сказать себе, но что у него еще с языком? Он у него, будто, как бы распух что ли? И боль еще там, какой – то, утолщено не удобный, не привычный. А между тем, солнышко уже выплыло полностью, из провальной лесной полосы. Высветилось ярко, озаряясь светом, ослепляя глаза. После уже, какое – то время спустя, не так и стало прохладно. И дрожь в теле вроде прекратился. Да и между промежутками деревьями, затем, холодный сумрак, пятясь, углубился вскоре, вглубь этого леса. И блики солнца, отраженные от поверхности речки, теперь, кажется, только ему уже перемигиваются. И, кажется, получилось у него. Выдернул он, наконец, можно сказать, с мясом, из левого внутреннего кармана пиджака, тот зачем – то понадобившийся теперь ему портсигар. Но, что это? И почему он продырявленный? И как бы придя в себя, будто, как бы перед его взором, вновь открылись те пугающие его, что интересно, ни откуда, это видение. О, ужас? Что он видит? Все тот же тамбур оплеванный курящими дверь, и этот, исчезающий будто в тумане, ему знакомый по купе человек. Хотя и совсем он уже исчез, но эти его глаза: трусливо бегающие со злобой, как бы временно задержались в исчезающем его облике. Поэтому он, в испуге вновь вздрагивает, причиняя невольно себе боль, и в тоже время, роняя на грудь этот портсигар. И там у него, у левой стороны груди, вновь молнией сильно кольнуло. Больно так. Что даже у него выдавило слезу. Недоумевая все еще, что же это с ним на самом деле, он, наконец, отстегнул с трудом пуговиц на пиджаке, затем и на рубашке. И что он видит? Прижав с усилием подбородок груди. Видно у него там рана, запекшей уже кровью. Прямо почти у ниже соска. Видно, этот портсигар его, получается, и сыграл с ним добрую услугу. Защитил проникновение полностью в его грудь, этого самого предмета: ножа или штыря заточки. Судя по дыре портсигара, можно было понять по форме – это был, как остро оточенная отвертка. Видимо, он и защитил его от неминуемой смерти, остановленный диафрагмой груди. А дальше ему уже понятно. Сознание высветил ему память. Помнит он. А это уже в Сургуте. Поезд был у него проходящий. И он еще помнит. К нему привязался какой-то мужик интеллигентного вида, в черной куртке на платформе, кашляющий часто, когда он, выйдя из вокзала сумкой, при объявлении диктором прибытия его поезда, стал подходить к своему вагону. И помнит. Он шел впереди него сумкой, перекинутый на левое плечо, и он еще, задержавшись у вагона, перед тем как подняться, обернувшись через правое плечо, прокашлянув, любопытствовал: «Вижу у вас, по билету, тоже этот вагон? Поедем, значит, вместе?» Вагон у них, и правда, был общий по билетам. Да, вот только. Куда он ехал, не сказал. Или не в настроении был в это время. Он это сейчас только вспомнил. И еще, к ним в купе больше никто не вселился. Поэтому ему было скучно ехать, а спать, не хотелось. И когда он, этот сосед по купе, ближе к обеду, следующего уже дня, предложил ему вновь покурить с ним в тамбуре, и там продолжить прерванную в купе беседу. Да еще он, прихватил собою и эту большую недопитую еще бутылку со стола. А ему было скучно, поэтому выбора у него не было, чем – то другим делом заняться; с предложением его почему – то сразу согласился. К тому времени, они уже знали, но еще шапочно, как им обоим звать. Он ему представился Сергеем. Затем, замешкавшись, и чуть сделав паузу, добавил смущенно, трогая пальцами кончика носа: «Собственно я, Сергей Иванович. Так в школе ко мне обращались мои ученики и учителя. Пришлось, вот, как видите, уйти мне из школы… – И не сдержанно уже. С грустью, со вздохом. – Вы тоже тут, вижу, на подработке были? Как я понимаю. Поэтому сами видите. Какая у нас сегодня провинция, с этой фальшивой демократией. Семью кормить, одевать надо? Ясно. Вы сами это, без моей подсказки видите, что делается сейчас в стране не так. Вот я и, завербовался временно, в нефтяники, чтобы сегодня семья моя выжила. Домой еду. Вахтовая у меня сейчас работа». И уставился на него с доверчивой улыбкой, чтобы и о нем узнать чуточку его судьбу. Все же они вместе ехали. Но он, на его это предложение, только растерянно хмыкнул и помрачнел, не ожидавший этого вопроса. Выставил ему только свои моренные желтые зубы, а затем, потерянно отмахнувшись рукою, хрипотцой кашляя, вы хрипнул. «Ай! чего уж там. Ничего путного там я не вижу, в моей жизни. Приболел я, домой тоже еду. Петром Гавриловичем меня звать». А у него еще, на лицевой стороне левой руки, выколот был, маленький якорь. «Якорь там у вас… с морем, выходит, вы связаны? «Да, было, когда – то. Это я, когда служил в мор пехе… пускай. Не мешает он мне». Вот и все. А в остальное время: сидели, изредка перебрасывались словами, поглядывая на окно между глотками, из этой все еще бутылки. И ничего такого подозрительного в нём, он не почувствовал тогда, от этого, своего соседа, по купе. Он, конечно, не был хилым человеком. Поэтому и опасаться от него, не зачем было ему. Но то, что он везет столько денег в кармане, об этом он как – то не думал, что его могут по дороге домой, кто – то ограбит. Если бы ему кто – то даже в шутку сказал, что его ограбит в пути его сосед по купе, он тому человеку просто рассмеялся, по привычке, отмахнувшись рукою. «Да, ладно. Зачем ему головная боль». Поэтому он, и спокоен был насчет своих денег. Но, а когда этот Петр Гаврилович предложил в очередной раз сходить в этот тамбур, и там, в разговорах, допить, наконец, остаток этого вина, из этой все еще недопитой бутылки, да и за одной, там еще тихонечко покурить (теперь в тамбуре не разрешали курить), он легко с ним, с его предложением покурить в тамбуре, согласился. Так как, он уже знал, да и сообщил, этому Петру Гавриловичу, скоро ему сходить, а покурить, перед тем как попрощаться с ним, подумал, почему бы нет? Раз еще и приглашают. Но, вот, то, что там, в тамбуре, после произойдет, он этого никак предвидеть не мог. Он же был нормальным мужиком. Хотя и знал, при неблагоприятных случаях, человек может превратится и негодяя. В жизни ведь, всякое бывает. Когда он покачнулся, тыркнулся на него, подумал только, или даже не успел подумать. Просто в тот момент вагон сильно качнуло, на стыке рельс, и он не удержался от стенки тамбура, где он до этого упирался спиною за него и курил. Его, конечно, сильно качнуло, и он, невольно по инерции, отброшенный, тыркнулся на него, на этого Петра Гавриловича. А затем, следом, тотчас почувствовал резких, сильных уколов в грудь. Этим, видимо, штырем, или отверткой. После… там провал у него с памятью. И как он упал, и когда столкнул его этот Петр Гаврилович, с тамбура, ничего этого он не помнил. Видимо, то, что он еще жив сейчас, это ему, Господу богу, выходит, помолиться надо, если выберется из этого леса. Да и выброшен он удачно. На густую встречную зеленную иву. И этим самым, он и, выходит, остался жив. После он, когда на четвереньках, с кровяными потеками во всем теле, выбирался из этой разросшийся недалеко от берега речки куста ивы, и он еще не знает, сколько он там еще пролежал в беспамятстве. Этого он не знал, и потому не помнил. Но когда выполз окончательно из этого куста, понял, что он жив, поэтому он, сгоряча все еще, хотел привстать, но его на этой попытке, сломил резкая боль в груди. Он даже, вроде, закричал, оглашая лес эхом, пронзенной этой болью. После, он снова надолго забылся.