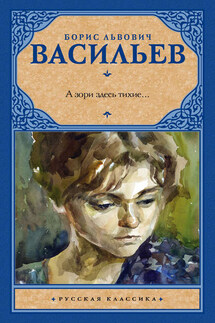Илья лежал на неструганных досках прифронтовой землянки. В голове раздавался надоедливый лай собак и вертелись ядовитые приколы, иногда неуместные шутки такого же, как и он, страдальца – рябого рыжеволосого урки. «Ты, Илюшенька, представь, что это не лай, а гармошка надрывается, твое освобождение празднует, глядишь и полегчает, душу рвать не будет», – как наяву слушал штрафник возбужденный шепот Шпона.
Пытаясь заглушить боль раненого плеча, Алёшин перевернулся на спину. В землянке было тихо. Дневальный по-прежнему отсутствовал.
«В списках убиенных на листках, что лежали на столе проныры Шпона вроде не было, значит, сорвиголова выжил. В окопе он был рядом со мной, а в бумажках отсутствует, наверно замполит вместе со всеми ему мозги вправляет», – продолжал тихо переживать Штрафник.
В памяти великана всплывал то немецкий дот, то окоп, то плац пересылки и стоявших осужденных, вдоль которых неторопливо прохаживался невысокого роста морской офицер, всматриваясь в истощенные серые лица этапируемых.
Сквозь дрёму в сознание солдата-штрафника явились посеревшие от времени, бесконечных дождей и снежных бурь приземистые бревенчатые бараки с трехъярусными деревянными нарами внутри. Илья, как наяву, ощутил жуткие от запахи скопища давно немытых тел, грязных портков и стоявших при входе параш. Вросшие в землю строения ГУЛАГовской пересылки жались друг к другу в несколько рядов, огражденные таким же посеревшим от времени деревянным забором с колючей проволокой вверху и двойной следовой полосой. Вокруг ограждения в зонах двойного прострела виднелись вышки, вышки, вышки… Почти у входа в ограду сразу за двухэтажным деревянным зданием администрации и сложенным из кирпича караульным помещением с одиночными карцерами внутри начинался плац, на котором администрация то ли полулагеря, то ли полутюрьмы встречала и провожала этапируемых осужденных.
За глухим забором и колючей проволокой на другом берегу реки простирались необъятные пылающие разноцветными красками уходящего лета просторы приполярной тундры. Там, за своенравной холодной северной рекой, предполагалась желанная свобода.
Котласская пересылка для всякого конвоируемого люда служила «воротами» на все четыре стороны, одной стороной – на северо-восток, к бесконечным шахтам и стройкам, другой – сразу к праотцам, третьей – на свободу, сродни второй, и последней – на бескрайние просторы северных окраин нужды и голода. Дальше на Севере осужденных ожидала следующая Воркутинская пересылка, после которой обычно заканчивался этап и начинались изнурительные будни отдаленных и всеми забытых рабочих зон. Алёшин еще и еще раз мысленно прошел путь из Соловков на Беломорканал, затем на Воркутинскую шахту, где пробыл совсем недолго, а потом неожиданно вернулся на обширную лагерную территорию пересыльной тюрьмы небольшого городка Котлас.
Котласская пересылка, где проводились сортировки этапируемых, была для зэка открытыми «воротами» на дальний Север, откуда обычно мало кто из осужденных возвращался, не дожив до освобождения. На внутреннем плацу пересыльного отчуждения проводились ежедневные традиционно выматывающие жилы сортировки вновь прибывших и далее этапируемых осужденных.
Илью успокаивало лишь то, что на пересылке отсутствовали десятники, старшины, другие командиры из числа ему равных сидельцев. В пересыльных тюрьмах в большинстве своем не предполагались изнурительные принудительные работы. Там всем управляли и строго следили за исполнением распоряжений военные внутренних войск НКВД. Обычно на нарах пересыльной зоны этапируемые долго не задерживались – одну-две ночи и в путь, но не в тот раз. Прибыв в Котлас с Воркутинского исправительно-трудового лагеря, Алёшин, не выходя из барака, проспал кряду более трех суток, а потом заскучал. Не обращая никакого внимания на шум в казарме и снующих между рядами нар сокамерников, он упирался взглядом в доски второго яруса и не мог заснуть. До второго и последнего звонка отсидки ему оставалось каких-то пять месяцев. Постоянно ожидая подвоха от администраций для намеренного продления срока, Илья ни с кем из лагерного начальства не спорил, шел на любую работу, исполнял все задания и поручения, от которых год назад мог бы и отказаться. Попасть в карцер ему также не сильно хотелось.
Там, где-то далеко за забором грохотала война, но злая круговерть событий даже во времена военного лихолетья крепко держала и продолжала загонять советских граждан в тюрьмы, казармы исправительно-трудовых лагерей. Многие, как и Алёшин, властным чинопоклонением из уединенных дворовых хозяйств, теплых семейных очагов, производственных цехов и лабораторий были согнаны в лагерные бараки страны. Подневольные лишенцы через бесконечные страдания и разруху как могли приспосабливались к новому ограниченному забором и колючей проволокой месту пребывания, преодолевая беспросветную нужду, холод, голод, грязь, въедливую гулаговскую вошь.
С началом боевых действий заключенный кузнец много раз писал прошения идти на фронт, но, как и многие лишенцы, получал постоянный отказ.