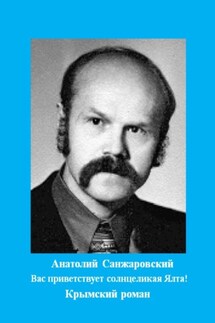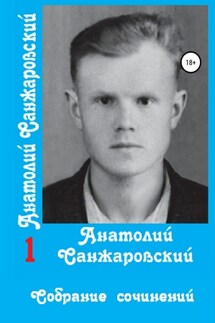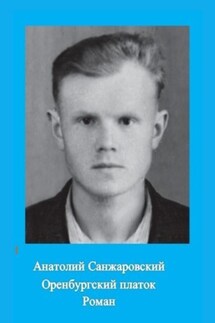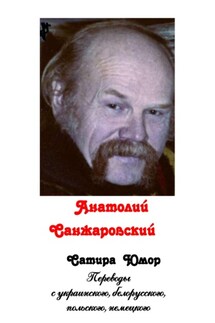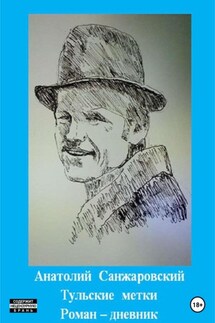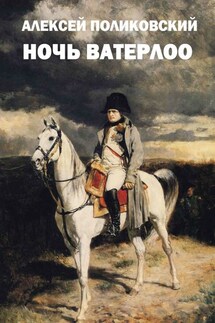Колёку избила жена.
Избила бестактно, грубо, масштабно. Била ж не одна. Била со всей дури напару с новёхонькой сумасшедшей скалкой.
«Боги мои! Я призываю вас в свидетели! Ти, совсем сдурела бабенция! Жила, жила да и подхватись драться. Ну черти её подучили, что ли… Прям шизанелли какая-то… На родного мужика скалку берёзовую задрала! А родилась жа в год овцы… Хэх, овечушка… Забьёт! Последнюю серость из башни вытряхнет эта перьехвостая тупайя. И будешь головкой трясти, как вседеревенский дурасёк Витя Алибо…»
Тоскливая перспектива не согрела Колёку.
Он опало загоревал и неосмотрительно потерял бдительность, отчего скалка, что чаще опускалась на изворотливо подставляемую им ладонь, прочно полыхнула его по спине.
Охнув, Колёка стриганул в распахнутое наразмашку окно и попутно срезал с подоконнища горшок с кактусом.
Горшок кокнулся и веерно брызнул унылыми черепками.
Кактус переломился.
Бегушком отхлынул Колёка на безопасное расстояние.
Храбро оглянулся.
Из окна воинственно помахивала вульгарная скалка.
Из-за скалки хрипело:
– Уди! Уди, живорез! Чтоба не видали тебя мои горьки глазоньки! Двух девок и тебя, кобелищу, не могу я больше окармливать одна! Девки что? У девок должность прохладная. Из миски ожкой! На то они и детьё. Но ты-то, кобелюка! Ты! Твоя должность – класть в миску! А что ты, котяра, положил? Дырку от бублика? А самого только пот и прошибает, как лопаешь чужое. Бабье! Урождённый брать рази может давать?
Колёка виновато насупился:
– Ти, мамэле, гонишь, стал быть?
В ответ из-за скалки боевым ядром просквозил горшок с фиалками.
Фиалки Колёка любил.
«Выбросить фиалки – всё равно что выбросить меня!»
Горшок въехал в тугое тело старушки яблони и осыпался на землю тихим, печальным дождецом мелких осколков.
Это был конец.
Колёка норовисто дёрнул носом.
– Я уйду! – сказал он оскорблённо. – Но считаю своим долгом предупредить. Кое-кто глы-ыбоко заблудится, затей какую непотребь проть меня. И как бы кое-кого не прижгло бежать ворочать…
Колёка с достоинством приложил руку в поклоне к груди – указывал, кого именно не пришлось бы бежать ворочать.
– Три ха-ха! Мели, кот Емеля, твоя неделя!
– Хватай шире. Год! Мой нынче год! Кота!
Колёка гордо выпрямился и пошёл.
Он степенно прошествовал за угол дома. Остановился.
Послушал дверь.
Нет, и за дверью не слышалось никакого движения. Никто не бежал молить его остаться. Ну что ж, побегут! Чудок попозжее туда! Колёка великодушен, может и снизойти, пару минут подождёт. Пока не сварится курья горячка.
Но не ждать же в открытую!
Колёка выставил одну ногу и примёр, держит на весу.
Это на тот боевой погорячливый случай, чтоб не застигли его откровенно ждущим.
Так, в уходящей позе цепко вслушиваясь в дом, он проторчал столбиком на месте и минуту, и две, и три.
Но за дверью шаги не спешили к нему.
Ни одна холера не летела ворочать его.
Оттопыренная нога занемела. Он устал стоять на одной.
«Таковски можно и в сам деле умыться… По телику слыхал… У япошика гусайа[1] вон шпацирует за своим благовериком в трёх шагах… Дистанцию держит… A эта… – Он бережно погладил зашибленную челюсть. – Так починить дорогую хлеборезку… Оха-а… Умотай на другой конец света – и ухом не поведёт… У-у!.. Гляну-погляну, распустили мы своих толстопятых гусынь! Демократия…»
Колёка ватно прикрался избоку к окну.
– Слышь… драчунелла, – тоскливо забубнил в оконный простор. – Надоел мне этот весь фиксаж-мираж… Ты побранивай за дело… Не возражаю… А побранив, посля не кори…А ты… Вторые сутки бесконечная побранка! Мне таковецкий бейсбол не нужон. Всё! Ти, лопнул мой терпец! Я обещал – я ухожу. Дело в прынцып уже въехало…
– А чего эт ты докладаешься? Мужик! Мужик прозывается! У тебя хрен ма гордости даже уйти по-мужецки! И кому где ты нужный? Таких… Вашего брата по тринадцати на дюжину кладут, да и то не берут! И куда ты, телёш, побредёшь?.. Разнесчастный гулькяй![2] Тебя ж лень да голод у первого плетня свалят. Мужик! Где мужик? – Она заботливо огляделась вокруг. – Где? Нету мужика. Одно позорище! Уйду!.. Нагнал холоду… А всего-то в игольное ушко ураган дует… Бездольный колоброд! Подожгло уходить в однех носках… Не смеши!
Колёка глянул – действительно, в одних носках.
Из окна вылетели его кривые башмаки.
Колёка галантно им поклонился.
Уж теперь-то он наверняка уйдёт. Есть в чём идти.
Есть и на что идти!
Колёка будто чуял, сдавит его чёрный переплёт. Придётся отстёгиваться от дома.
Это ж в крови у великих!
Вон аксакал Лео Толстой тоже уходил. Хопнул дедюня бабуриков и в божий путь!
Уйдёт и Колёка.
И к уходу загодя скопил, соскрёб по жениным сусекам заначный стольник, влепёхал под стельку на пятке окривевшего башмака.
Он мстительно поклонился скалке в окне, недобитым на подоконнике горшкам с крапивкой, с крестовиком, с огоньком, с геранью, с розой, с женихом, с невестой, с декабристом.
Игристо помахал ручкой и пошёл.
На третьем шагу обернулся и крикнул торжествующе:
– Татьяна! Моё счастье без изъяна! Я ухожу! Хлестаться в десну[3] не будем. Некогда! Видишь же! Ухожу!
– Но и ты, дуропегий, видишь, что я не утопаю в слезах. Нужен ты тут, фонарь бубновый, как кенгурихе авоська! Мотай на все четыре ветрушка! Носит же таковских земля… Хвостомер! Доехать до двадцати пяти и ни копья не пригнать в дом! Ни дня в работе! Такого второго дурноеда на всём земном шарушке нету. Артист Хренкин!