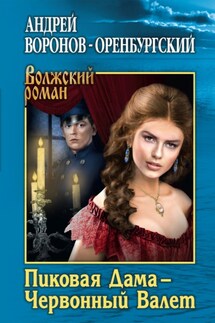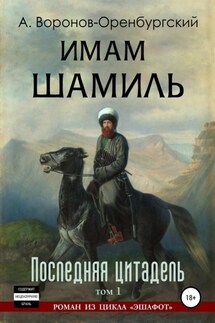Как огненная джигитовка на лихом коне, как стремительный полёт орла над ущельем…Простучала, пронеслась крылатой тенью жизнь. На дворе, укутанный в голубые снега, стоял 1998 год.
Танкаев медленно брёл по любимой Москве, стоящей на семи холмах, такой разной, в которой, как винегрет смешались времена и архитектурные стили…Этот огромный город-колосс был и останется, как желание воплотить утопию. Москва уникальный город-герой, город-музей, город-Утопия. Москве без малого 900 лет и 500 лет она была столицей Третьего Рима, Великой Российской империи, Красной империи – СССР, и вот теперь…
Он шёл по Каланчовке, мимо высотки-гостиницы «Ленинградская», место в Москве одно из старейших, любимых, но теперь с чудным и враждебным названием «Хилтон». Увы, кощунственные гримасы нового лихолетья были повсюду, как рассыпанное, пестрючее конфетти.
Январская, вечерняя Каланчовка ещё хранила следы варварской драки красок Новогодней Москвы. Везде на лавках, под ногами валялся брошенный, затоптанный, никому теперь не нужный ёлочный лапник и прочий праздничный хлам; тут и там искрился застрявший в ветвях деревьев и проводах цветной серпантин, целлулоидный иней, зеркальные гирлянды, битый хрусталь, сгоревшие хлопушки-петарды; в сугробах торчали пустые бутылки из-под шампанского, водки, амаретто, вискаря, хрустящие упаковки баночного пива. Пёстрый сор гонимый белой позёмкой: фантики, блестючая рвань целлофановых пакетов из-под сухариков, орешков, фисташек, сдутые воздушные шарики «Happy new year», так похожие на использованные презервативы-предохранители от сифилиса, триппера и прочей заразы… Да, и собственно, они самые, как яркий штрих вседозволенности, торжества победы либеральной пошлости, демократии и секс-шопа.
…Он продолжал медленно брести по Каланчовке, которая прогоняла сквозь себя непрерывный шуршащий неоновый свет. Облизывала ему ноги, как ночной, светящийся планктоном, морской прибой. Старые хорошо знакомые величавые дома вокруг, казались непроницаемыми, без ворот, арок, подворий. Стояли, как стальные сейфы и каменные склепы, не пускали Танкаева в соседние улицы, знакомые переулки, выдавливали, вытесняли, будто хотели сбросить его на обочину, в шипящую плазму, под шипованные колёса летящих куда-то узкоглазых злобных машин. Любимый город, был чужой, не его, населён чужаками, с другими, враждебными лицами.
Магомед Танкаевич, недолго прожив вне Москвы, будучи в больнице, после операции на реабилитации в Дагестане, потом в вынужденной командировке,– вернулся в неё будто из астрального мира, потеряв во время своего странствия целую эпоху, и теперь не находил своих современников. Натыкался повсюду на потусторонние лица, знаки и вехи иной культуры, иного уклада и строя. И казалось, не было для него пристанища, безопасной бухты, не было и дома. Семьи, где бы его любили и ждали. Души, готовой откликнуться на его одинокий зов, на его печали и горечи.
Он пробирался сквозь каменные теснины, с трудом одолевая перевалы, погружаясь в распадки, скрываясь в пологие низины. Движение по Москве напоминало блуждание в безлюдных горах Кавказа, где он стоптал не одни подошвы, расстрелял не один патронташ, и теперь, потеряв тропу, без товарищей, без боекомплекта брёл наугад на туманные миражи и видения. Этими видениями были воспоминания о далёкой солнечной поре детства, о матери и отце. Разные люди по-разному вспоминают своих родных. Ему же приходил на память один и тот же сюжет.
Утро. Воздух прохладный, прозрачный, зелёный, как яблоко. Матушка Зайнаб с кувшином полным воды, возвращается с родника. Несёт воду как что-то самое драгоценное. Поднялась по каменным ступеням, опустила старого чекана медный кувшин на землю, принялась разжигать огонь в очаге. Разжигает его тоже, как нечто самое драгоценное. Глядит на него не то с опаской, не то с восхищением. Пока огонь разгорается, мать качает люльку. Качает она её как что-то самое драгоценное. Днём она вновь берёт пустой кувшин и снова идёт к роднику. Потом разжигает огонь, затем качает люльку. Вечером, когда воздух снова прозрачный и прохладный, сиреневый как аметист, Зайнаб опять приносит воду в кувшине, качает люльку, разводит огонь.
Так делала она каждый день весной, летом, осенью и зимой. Делала неторопливо, важно, как что-то самое нужное, драгоценное. Идёт за водой, качает люльку, разжигает огонь. Разжигает огонь, идёт за водой, качает люльку. И так без конца. Такой он вспоминал свою маму. Идя за водой, она всегда повторяла: «Посмотри за огнём». Хлопоча с огнём, наказывала: «Не опрокинь, не пролей воду!» А ещё, будучи очень набожной, говорила за каждым словом, при каждом движении: «Бисмилах»… Напоминала детям: «Отец Дагестана – огонь, а мать – вода».
Отец Танка хмуро кивал головой и говорил сыновьям: «Огонь и в словах горских пословиц живёт, и в слезе горянки. Есть он и на конце винтовочного ствола и на лезвии кинжала, выхватываемого из ножен. Но самый добрый и самый тёплый огонь в любящем сердце матери и в очаге родной сакли.
Когда горец хочет сказать о себе хорошее или попросту похвалиться, он говорит: «Ни к кому ещё не приходилось мне ходить за огнём».