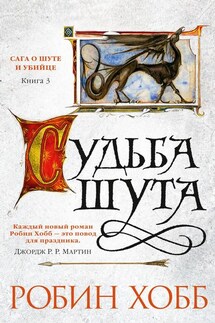Переправа уже началась. К вечеру небо очистилось и на заснеженную, истоптанную, обезображенную землю упал мороз. Снег на разные голоса визжал под сапогами, и в этом скрипучем визге слышалась то мольба, то угроза, то холодная издевка. Голодные демоны стужи кружили возле беспорядочной толпы людей, не напоминавшей больше войсковую колонну даже издали. Им не приходилось долго выбирать добычу, поскольку ее здесь было хоть отбавляй. Беспощадный холод косил поредевший корпус Нея похлестче русских пушек.
Лейтенант отдельного саперного батальона Клод Бертье сошел с дороги в серый от осевшего пепла снег обочины и беспомощно огляделся, пытаясь сообразить, каким образом отыскать в этом столпотворении майора Мишлена. Мимо него, бряцая амуницией, гремя железом и оглашая окрестности проклятьями и стонами, тащились жалкие остатки корпуса – вниз по пологому склону, через превратившееся от пожара в ровное поле Московское предместье, к снежной поверхности Днепра. На закопченных печных трубах сидели сытые вороны, провожая умирающих от мороза и голода людей равнодушными взглядами. Повсюду стояли брошенные повозки, снарядные фуры и госпитальные кареты с павшими прямо в оглоблях лошадьми. Корпус Нея покидал Смоленск, спеша на соединение с войсками Даву, которые, как полагал маршал, все еще удерживали русских у Красного, и путь его был отмечен беспорядочно валявшимся в снегу оружием и амуницией – всем тем, что обессиленные солдаты не могли нести на себе. Бертье увидел, как в проходившей мимо него колонне, покачнувшись, упал на колени и ткнулся лицом в снег мальчишка-барабанщик, до самых глаз замотанный в бабий салоп. Барабан, глухо стукнув о ледяную кочку, откатился в сторону. Упавший барабанщик лежал неподвижно, и солдаты равнодушно брели мимо, перешагивая через него. Кто-то все-таки наклонился, приподнял голову юнца, заглянул в залепленное снегом безусое лицо и покачал головой: безнадежен.
Лейтенант засунул окоченевшие ладони под мышки, но тепла не было и там. Ему казалось, что его тело проморожено насквозь, и Бертье только диву давался, каким чудом ему все еще удается двигаться. Для него, уроженца солнечного юга Франции, холод был особенно нестерпим, а хуже всего было то обстоятельство, что конца этой пытке не предвиделось. Здесь, на этих заснеженных равнинах, среди замерших в мертвой спячке лесов и сожженных дотла городов, не было ни тепла, ни покоя, ни отдыха – только голод, холод и смерть. Тоскливое предчувствие скорой гибели не оставляло лейтенанта Бертье ни днем, ни ночью. В последнее время оно стало привычным фоном его существования, и случались моменты – вот как сейчас, например, – когда смерть переставала его страшить, представляясь долгожданным избавлением от нечеловеческих страданий.
Майор Мишлен, которого Бертье уже отчаялся отыскать, неожиданно вынырнул из морозной тьмы справа и осадил тощую, едва стоявшую на ногах лошадь. Его небритое обветренное лицо в пляшущем свете факелов напоминало зверскую физиономию лесного разбойника, помятая треуголка была нахлобучена на самые уши и обвязана поверху цветастым женским платком, выглядевшим нелепо и даже дико, но зато отменно предохранявшим майорские уши от лютого русского мороза. Бертье заметил большие мужицкие рукавицы на руках у майора, левая ладонь его нервно комкала поводья, а в правой он держал обнаженную шпагу.
– Проклятье! – простуженно каркнул майор, наклоняясь с седла и вглядываясь в лицо Бертье. – Это вы, Клод, мой мальчик? Наконец-то! Я боялся, что вы мертвы. Я искал вас.
– Да, мой майор, мне передали, что вы желаете меня видеть, – делая слабую попытку стать ровно и опустить по швам окоченевшие руки, прохрипел лейтенант. Каждое слово причиняло ему боль, воздух царапал воспаленное, простуженное горло. – К сожалению, я не мог отыскать вас в этом содоме...
– Вот уж воистину содом, – согласился майор, вытирая клинок о лошадиную гриву и со второй попытки загоняя его в ножны. – Представьте, меня только что едва не убили какие-то пехотинцы, решившие, что моя лошадь им нужнее. Полагаю, они хотели прикончить несчастное животное и либо сожрать его, либо, что представляется более вероятным, вспороть ему брюхо и забраться внутрь, чтобы согреться. Ад и дьяволы! На них были медвежьи шапки гренадеров! Гренадеры! Бессмысленные скоты, потерявшие человеческий облик – вот во что превратились наши солдаты! Будь проклята эта страна!
Бертье промолчал. Помимо бабьего платка и мужицких меховых рукавиц, на майоре Мишлене был наверчен большой кусок золотой церковной парчи, у левого плеча прожженный насквозь, так что нелепая фигура майора составляла разительный контраст с его воинственными речами. Впрочем, лейтенант Бертье почти не обратил на это внимания: его мозг заволокло пеленой тупой апатии, которую он не без оснований считал предвестницей скорой смерти.
– Осмелюсь доложить, мой майор, – прохрипел он, с трудом подняв голову на затекшей одеревеневшей шее, – нам пришлось бросить все понтоны.
– К черту понтоны! – отмахнулся майор. – К дьяволу! Лед достаточно крепок, чтобы мы могли обойтись без них. Ну а если он не выдержит – что ж, такова жизнь. Мы проиграли войну, а вы толкуете мне о каких-то понтонах. Посмотрите вокруг, Клод! На этом поле валяется столько оружия, что его с избытком хватило бы на целую дивизию! Ха, понтоны! К чертям их, мой мальчик! Я искал вас совсем для другого. Вы видите, мы отступаем – вернее, позорно бежим, не помышляя более о сопротивлении. Ходят упорные слухи, что под Красным, где нас должен дожидаться Даву, уже идет сражение. Мы обречены, мой друг, обречены! Единственное, что нам остается, это оставить русским хорошую память о себе.