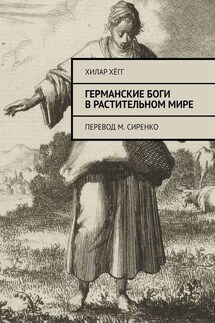Читать онлайн полностью бесплатно Василий Бухалкин - Притча о человеке

Шел по тропинке Человек. Не добренький, не злой. Справедливый. Не трус, не храбрец отчаянный. Новых страхов не придумывал, а с опасностью осторожен бывал. Сам на драку не напрашивался, но и свои щеки не подставлял.
Книга издана в 2024 году.
Шел по тропинке Человек. Не добренький, не злой. Справедливый. Не трус, не храбрец отчаянный. Новых страхов не придумывал, а с опасностью осторожен бывал. Сам на драку не напрашивался, но и свои щеки не подставлял. Над слабым не глумился, сильным не покорствовал. Убогим помогал, богатым не завидовал. Нормальный Человек был, человечный. А что по земле родной ходил и очага домашнего не имел, так тому время видно не пришло. Искал Человек не негу волшебную, не поживу земную. Знание искал. Себя. Место на земле только свое, самое нужное. А все, что в пути встречалось – небольшим, маленьким казалось, не главным. Разве это дело настоящее – то коршуна от наседки отогнать, то стадо от волков отбить. Ловкий был Человек, сметливый. Догадку долго не ждал, само собой получалось. Только руки приложи. То мост через овраг изладит, то поле новое от камней да коряг очистит, то колодец с ключевой водой поставит. При тревожной надобности и колокол вечевой набатный отливал. Да и за труд-то тяжкий не считал этого. В охотку-то оно легко, в радость. Добро делать приятно – людям польза, а самому тебе отрада да нежность сердечная. И не поймешь сразу, ради чего старался, то ли только людям помочь, то ли душу свою участием согреть. Так и ходил Человек по хуторам да посадам, ни одного стана не пропускал. Людей разных встречал: добрых и не очень, складных и неказистых, рукастых и неумелых, пиетету обученных и порядочных. Людей много, да все разные, бывает и похожи вроде бы, да нет, всяк со своей отметиной, со своей сноровкой, у всякого своя чудинка. У всякого чему поучиться было, а через дело да учебу и себя получше узнать.
Однако стал замечать Человек, что кривое да лживое почему-то в почет входить стало. Где осанкой стройной, походкой величавой да умом острым славилось, там теперь уродством да глупостью гордятся. Люди и раньше гневливы бывали, да отходчивы, а теперь зло копится, не рассасывается, сердца изморозью сковывает. А то вдруг летний ветерок гниль болотную да холодную сырость принесет, что очаг плесенью затянет. Стало Человеку на душе не спокойно. И объяснить нельзя почему. Будто тяжесть неподъемная на сердце легла, липкая да холодная. Так, что озноб по спине, а отчего не поймешь. Будто весть дурная пришла, а о чем, толком не скажешь. И засобирался Человек домой, к сердцу Отчизны прикоснуться, вновь силы обресть.
Не сказать, что тяжела дорога была, а все же какая-то изнурительная, нерв изматывающая, необъяснимо тревожная. И чем ближе к Отчине, тем почему-то дорогу сложнее находить стало. И места вроде бы знакомые, а не сразу и узнаешь. Где луга да поля ухоженные были, там трясина малярийная зловонием дышит. Где тропинка вольно бежала – вдруг на изгородь глухую, да с кобелем на цепном ошейнике натыкался. А садов духмяных и вовсе не встречал. Одни пни замшелые попадались, в труху короедом источенные. Зато бузина да ягода волчья с осотом росли всюду с радостью ядовитой. И пришел Человек домой и не узнал Он его. Там, где речка живительной влагой нежно травы и древы питала, там теперь только русло сухое, как морщины болезни на теле. Где дубрав мягкий ласковый шелест наполнял добротой и восторгом, заряжая мир силою жизни, там пустошь легла злым колючником в пояс покрыта. Вековые где сосны и ели вкруг себя излучали здоровье, там остались одни лишь коряги да засор из кустов скучнорослых. Где поля чуткий слух веселили тихим звоном спелых колосьев, там земля покороблена коркой с украшением соли проплешин. Где песнь птиц в души радость вселяла, слышно стало лишь писк комариный. Вздох кузнечного меха, перепев молотков с наковальней не нарушил гнетущей тоски.
Сам посад обветшал, как-то сжался, лишь погостом размер соблюдая. Да вплотную к нему из низины подобралось к окольям болото, жижей улиц края наполняя. А вдоль них, где прискоком, где так, по колено, серо-страшные движутся тени, будто люди, но в чумном угаре. Кто визжит, кто смеется, кто плачет, кто затих под забором замшелым, грязь болотную в темя втирает, затхлый дух ноздрями вбирая. Кто тихонько, с оглядкой, в триколен по-холопьи согнувшись, шмыг за ограду, затаился, притиснулся к щелке и глядит, поводя он белками, безразличья своего не скрывая.
Где же дети? Нигде их не видно. Смех счастливый чей жизнь утверждая, беззаботно повсюду звенел. Раз чумазая мордочка вроде мелькнула и, суму у калеки рванув, вновь исчезла в мусорной куче, что торчала как горб безобразный посредине двора развалюхи, где царил шепелявый сквозняк в безнадежном беззубье окон. Где колодец прохладной водицей летний зной смирял быстро и верно, сил целебных давал, там теперь яма с затхлой лужей, подернутой тиной. А где предков место святое чистоту наших мыслей спасало, видит – змей там лежит подколодный, нагло греясь, ничуть не скрываясь, жирным червем березу обвивши, чего раньше никак не бывало. Лишь шагнул Человек с возмущеньем, чтоб воздать наглецу поруганье, услыхал визг он сразу сирены. Оглянулся.
Вминая грязь, подрыгивая на ухабах и пронзительно скрипя суставами двигалось нечто, что было когда-то машиной. Бока, некогда желтые, всюду изъедены бородавками ржавчины. Тяжело охнув, этот аппарат, будто уткнувшись в непреодолимое препятствие, обреченно осел на шарнирах. Из распахнувшихся дверок, словно картошка в прореху мешка, высыпала свора кажется мужских особей. И одеждой, и поведеньем странные были особи. С головы до ног во всем грязно-болотном с черными пятнами да разводами, на головах – чулки рваные, в дырки лишь глаза отсвечивают. Да глаза ли? Серо-мутные стекляшки какие-то. Бесцветные, равнодушные, пустые. В руках палки суковатые, на поясе железки побрякивают. Казалось, что они меж болотных кочек прятаться собрались да заблудились – в посаде оказались. Высыпали из тарантаса и потрусили друг за дружкой, словно кобельки за собачкой, к Человеку приближаясь. Бежали да бестолково дергались: то нелепо приседая, то ложась, то вскакивая. Окружили Человека, суетились, не решаясь подойти ближе, низость души за лицемерной отвагой прячя. Какая-то неведомая, непонятная им, а оттого страшная до жути, сила удерживала этих дергунчиков, жилы холодила. Так и стояли они будто окоченевшие, тихонько поскуливая, жалуясь кому-то на отнятую и недоступную теперь добычу. Недоуменный этим Человек с любознательным интересом разглядывал эти существа и ему было почему-то жалко их. Хотелось даже помочь, вот только не знал он чем, потому что раньше на посаде таких чудных, как ему виделось, человекоподобных не было, не ведал он откуда взялись оные и для чего. Хотя чувствовал, что эта свора опасна своим количеством и может в спину ударить из срамной подлости, как ночной тать кистенем. Особенно слабого, неуверенного своей правотой посадника. А вот встретили Человека и растерялись, еле-еле дрожь унимая. Так и стояли зеленые, друг на друга озираясь, опасаясь к побегу опоздать. Занятый мыслями Человек на минуту позабыл о змее и не видел, как тот, испугавшись до судорог, шмыгнул в придорожную канаву, оставляя за собой след голубоватой слизи. Не сразу он оттуда выбрался, как бы испытывая надежность появившейся защиты. И, уверившись в своей безопасности, выполз из скрывавшей его грязи. Однако к березе не вернулся, улегся поодаль, спрятав свою головенку в центре колец. Его шкурка мелко подрагивала, унимая еще не прошедший страх. Страх перед всем человеческим, уже им вроде бы навсегда позабытый и так нечаянно вновь остро пронзивший. Рептильи глазки с ненавистью уставились на Человека в предвкушении мести за испуг свой явный. Один из зеленых что-то забубнил, гундося и пришепетывая. И чехол на его голове то в одном, то в другом месте выдавал очертания рта, то пузырясь, то проваливаясь. В ответ на призыв о подмоге к этому неподвижному хороводу двуногих из загаженного проулка подъехал почти бесшумно, крадучись, саркофаг на толстых гуттаперчевых колесах. Это бренное хранилище было все облеплено аляповатой мишурой лаковой, из верхней крышки тараканьими усиками тщетно тянулись к небу проволочки, между ними предостерегающе моргал синий фонарь как в казенном нужнике. Выскочивший из первой дверки воровато покосил по сторонам глазками, открыл следующую, застыв колом не дыша. Из проема высунулась нога тупорыло блестящая, брезгливо ощупала землю, выбирая место поудобнее, посуше и, обреченно вздохнув, дала разрешение второй. Вслед за ногами лениво и нарочито медленно выплыло тело мясистощекое с утонувшими где-то наверху шляпками глазок. Одетый от ли в мундир, то ли в ливрею он, небрежно ворочая всем туловищем, осмотрелся по сторонам, надменно отмахнулся пухлой ручкой от подбежавшего зеленого доводчика и уже сделал несколько шажков когда взгляд его, шарящий по траве чахлой и мусору, заметил свернувшегося змея. Пошатнувшись и согнув коленки, мундирный ливрей засеменил часто конечностями и заскользил к клубку. Не дойдя видимо строго отмеренного и придав телу особенное выразительно подобострастное положение, зачмокал скользкими губами, старательно, неумело рокоча, беспрестанно ползая кистями по пуговкам, кармашкам. Пиявочные пальчики растопыривались, готовые снова куда-нибудь перелезть. Змей успокоился и только выбрасываемое изредка жало выдавало еще недоумение о происшедшем. Мигнув по барски кожистыми веками, змей развернулся и безобразным обрубком уполз, втиснувшись между прутьями поваленной ограды. Ливрей постоял еще для свидетельства верности, потом дернулся по пружинному и, разгребая обувкой попадавшийся хлам, двинулся к Человеку. Угождавший превращался в гадящего. Свисавшие щеки напружинились и втянули губы в ротовую щель раковины сомкнутой, челюсти пережевывали что-то, тренируясь пред открытием. Вдувшиеся глазки выплюнули взгляд ядовитый, но, столкнувшись с человеческим, вдруг обессиленно опали, как шлепок по стене. Красновато пятнистое лицо посерело и провисло как у дряхлого пса, рот приоткрылся, обнажив накладные зубы, и беловатый язык от неожиданности выпал, обмочив слюной пересохшие губы. На фуражке подбирающегося Человек увидел свинцовую кокарду с изображением чего-то ползущего. Человек молчал, с тревожным интересом наблюдал и оценивал происходящее. И тревожным его интерес становился потому, что он не узнавал своей Отчины, да и Она, видимо, не узнавала Его. Обращение ливрея подтвердило догадку. Говор прислужника, тарабарски слепленный из слепых слов и ленивых звуков, сначала давился у него в горле, а затем выбрасывался влажными, липкими брызгами. Язык в этом почти не участвовал,, независимый от мысли он сохранил только два навыка: проталкивать пищу в желудок и облизываться. Человек слушал, вылавливая в этих вызубренных или подслушанных фразах бедный смысл. А между тем говоривший полностью опорожнил свой запас, почтительно дернулся и, загребая носками, спотыкаясь, засеменил прочь, утопив головку в шею, словно боясь обернуться. За ним потрусили и его зеленообряженные. Хлопнули дверки, тужась заскулили моторы и машины, заскользив на повороте, спрятались за углом черного от копоти пожара дома, где когда-то жил Даритель Знаний. Человек обдумывал услышанное и решал что делать. То, что хотевшие напасть на Него – уклонились, объяснялось просто: независимый, уверенный облик Человека был принят ими за повадки важного иноземца, которого не только нельзя трогать, но и косым взглядом касаться запрещено. Такого гостя легко оскорбить и потому опасно в силу его крайней мстительности. Привыкшим в обращение с прочими к отсутствию всякого сопротивления, здесь спокойный взгляд Человека гарантированно обещал отмерить пятаков немеренно на всякую копейку. Приученные и поощряемые к издевательствам над беззащитными они уже получали от этого удовольствие, имели в этом потребность, как в естественной надобности и, чем больше страдала жертва, тем большая жестокость ими овладевала. Встреча с Человеком вдруг сдавила спазмой их желудки и вынудила судорожно сглатывать. Подоспевший ливрей освободил их от принятия решения, и потому они все это время отрешенно ждали, изредка ощущая внутренние позывы. Между тем то, что услышал Человек, было дико и нелепо. Неужели правда то, что общий сход посадских выборников единоручно одобрил самоновейшие изыски мудрецов всеболотной лиги защиты и принял сказку об особой избранности и совершенстве ползучих гадов. И по этой сказке Гад ползучий обзывался вершиной изящества, талантов и гармонии, а вековые непрощенные гонения возмещались властным побором со всего сущего в посаде и окрест. А имя Гада произносить отныне с самой заглавной буквицы и с умилением. Всяким же двуногим, прочим тварям и скотам запрещалось приближаться без особого на то указания к сим совершенным творениям. Предписывалось также с одним лишь только восхищением каждодневно постигать гениальность и совершенство болотной жизни. Человеку же, как желанному иностранцу, ливрей настоятельно рекомендовал принять и учесть данное сообщение во избежание недоразумений и возникновения неприятия со стороны вселюдно и всезаконнейше Назначенного, осуждения холопнодержавным свободным сборищем и осквернения распорядителями элитного приболотного племени. Было от чего задуматься. Когда-то лучшим местом для мысли исканий был Священный Утес над величавой рекой. Безбрежные горизонты Земли Предков до краев наполняли души чувством гордости разумной и свободы окрыляющей. И не было пределов силам Человеческим, Его Разуму, Его Сердцу. И не было места суете мелочной и злым помыслам. Много Людей сюда раньше приходило на землю трудом украшенную любоваться да следующие шаги жизни своей обдумывать. Будущее творить. Вот и Человек пошел на Утес.