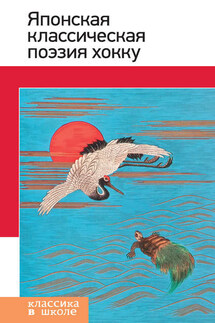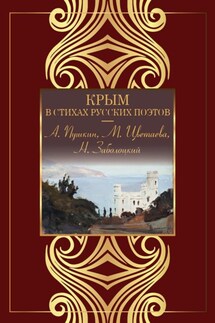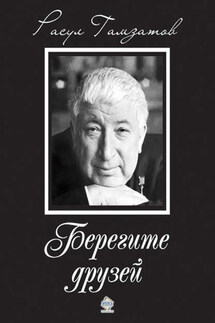В 1931 году стихотворение, посвященное Борису Пильняку, Борис Пастернак закончил такими строками:
Напрасно в дни великого совета,
Где высшей страсти отданы места,
Оставлена вакансия поэта,
Она опасна, если не пуста.
Это было написано задолго до катастрофы 1937 года, когда погибло много талантливых писателей и адресат процитированных стихов – Борис Пильняк. Пастернак как истинный поэт пророчески предугадал трагедию и написал стихи, а Маяковский застрелился, зачеркивая идею «социального заказа».
Подлинная поэзия не пишется на заданную тему, чего требовали принципы «партийности литературы». Неспособные встраиваться в конъюнктуру, хвататься за злободневность вынуждены были прикрыться высокой непререкаемой культурой и уйти в перевод. Так родилась уникальная школа художественного перевода – русская, которую до недавнего времени называли «советской». Крупные поэты эмигрировали в перевод: А. Ахматова, М. Лозинский, Г. Шенгели, Н. Заболоцкий, вернувшаяся из эмиграции М. Цветаева. Ушел в перевод и Б. Пастернак, в результате чего появились на русском языке Шекспир, Гёте, Байрон, Верлен и Николоз Бараташвили. Благодаря переводу поэты, «несозвучные эпохе», сохранили связь со «звучащим» словом и могли учиться на переводимых гениях.
Бесспорно, многие тяготились ролью переводчика. Арсений Тарковский писал: «Ах, восточные переводы, / Как болит от вас голова!..», но, впрочем, печатал лучшее из своих переводов в однотомниках и многотомниках.
Предваряя свою поэтическую книгу «Чаша», я написал: «Раздел переводов включен в издание не потому, что автор решил показать себя мастером этого жанра, а затем, что считает перевод неотъемлемым от всего его творчества». В статье о моей поэзии поэт В. Леонович пишет: «Ревич стер разницу между понятиями поэт и переводчик».
Переводя, можно многому научиться – и не только формальному, технике. Учиться можно духу и сознанию. Замечательный мастер перевода и один из моих учителей Сергей Васильевич Шервинский однажды заметил, что влияние поэтов русских опасно – можно стать подражателем, а учиться у иноязычных безопасно, можно многое у них заимствовать безнаказанно.
Как поучительны для меня оказались переводимые поэты, особенно такие, которые писали сонеты, октавы, французские баллады, терцины. Эта работа хорошо набила руку и приучила к строгости в языке. И в поэтике тоже. Наибольшее влияние я испытал, переводя таких поэтов, как Константы Ильдефонс Галчинский, Поль Верлен и особенно Теодор Агриппа д`Обинье. Уже завершив многолетнюю работу над переводом «Трагических поэм» Агриппы, я с удивлением заметил, как изменился за эти годы мой почерк: был острый, стал округлый. Неужели изменился и характер? В дальнейшем я убедился и в этом. Однажды мне попался на глаза автограф страницы из поэм д`Обинье: мой русский почерк стал походить на старофранцузскую вязь переводимого поэта. Долго не мог прийти в себя. Д`Обинье не только расширил мой стилистический мир, но внедрил в меня свой мир. Вскоре я написал венок сонетов «От переводчика «Трагических поэм» Агриппы д`Обинье», который стал стихотворным предисловием к их изданию и в свою очередь дополнил ряд моих собственных произведений. Эстетическая планка была поднята. Вспоминается разговор с поэтом Евгением Рейном, который упрекнул автора этих записок, что тот, дескать, тратит слишком много сил, крови и времени на перевод чужого поэта. Я ответил, что перевод поэта такого уровня, как Агриппа, поднимает на такую духовную высоту, какая и не снилась всем нашим знаменитым современникам.
Относительно молодым я подпал под странное обаяние стихов поляка К. И. Галчинского. Несколько лет переводил его стихи и вдруг обнаружил, что невольно перенимаю многие принципы его поэзии: беспредельность поэтической свободы, когда всё идет в пищу, бесцеремонно интимное обращение со всем, что составляет мир. Спустя несколько лет я посвятил покойному поэту и его вдове Наталии, с которой мы подружились, «Поэму о позднем прощании». Семья Галчинского жила в Варшаве на улице Аллея Роз, где, согласно поэме А. Блока «Возмездие», умирал в больнице отец Блока, Александр Львович. Подсознательно образ Блока и метель того далекого года вплыли в мою поэму. Когда я прочел ее в квартире Галчинских хозяйке дома и нашим общим друзьям Загурским, поэту Ежи и его супруге Марине, Наталия подвела меня к окну и указала на пустырь через улицу от их дома. И тихо сказала: «На этом месте стояла больница, где умер отец Блока». Жизнь поэзии пронизана мистикой, и перевод поэзии – тоже.
От Наталии я узнал, как плакал Галчинский, когда ему не удавалось перевести «Незнакомку» Блока. Он остро чувствовал музыкальный тон блоковской дактилической рифмы (ресторанами – пьяными; переулочной – булочной… и т. д.). Еще бы не плакать: в польской просодии и самой структуре языка дактилическое окончание невозможно. Такое болезненное отношение к переводу может возникнуть только у настоящего переводчика, который и есть поэт. В этом случае всё играет роль, и звук подлинника в том числе. Не то, что в работе «доноров», дотягивающих непоэзию до подобия поэзии.