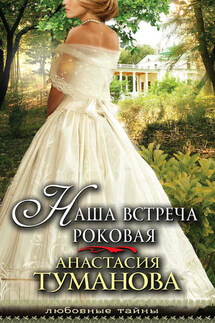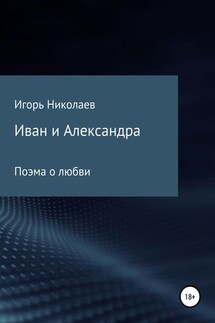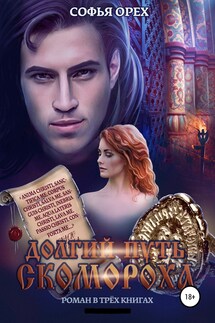Ветреным ноябрьским вечером 1895 года ресторан Осетрова в Грузинах был полон. Цыганский хор заканчивал очередное выступление: на эстраде перед столиками сидели на стульях певицы в черных и белых платьях, среди которых выделялись яркие юбки плясуний, за спинами женщин стояли гитаристы в синих казакинах. В зале пахло свечным воском, дичью, крепкими духами, сигарный дым пластами плавал под потолком. Гости были уже изрядно пьяны и бьющую плечами перед столиками танцовщицу – совсем девочку в нарядном платье алого шелка – подбадривали нетвердыми голосами. Наконец девчонка отплясала, блеснула напоследок зубами, вернулась на место, и почти сразу же хор встал. У цыган было полчаса на отдых перед следующим выходом.
В крошечную комнату за большой залой набилось больше двадцати человек, и тут же стало не развернуться. Глава хора Яков Васильев, семидесятилетний старик с острым неласковым взглядом и по-молодому стройной фигурой, бережно неся за гриф гитару, вышел в ресторанные сени. За ним последовал его гость – высокий человек лет пятидесяти, еще красивый, с густыми седыми волосами и осанкой, выдававшей отставного военного. Он улыбался старому цыгану, но серые глаза смотрели холодно. Впрочем, Яков Васильев знал: другого взгляда у графа Воронина не бывает.
– Ну, ваша милость, понравилось?
– Не в обиду будь сказано, Яков Васильич, – не понравилось.
– Что ж так? – без удивления спросил хоревод. – Разве плохи голоса в хоре?
– Плохи, – без обиняков заявил Воронин. – Я вас семнадцать лет не слышал и на правах старого поклонника говорю: голосов хороших нет. Без твоей Насти и без моей Зины хор гроша не стоит.
– Эк чего вспомнили, Иван Аполлоныч… – усмехнулся в усы хоревод, и в темноте сеней граф не заметил, какой горькой была эта улыбка. – Настьки не сыскать… А Зинку, между прочим, могли бы и обратно к нам отпустить.
– Пойдет она, ждите! – рассмеялся граф. – Была Зина Хрустальная – станет графиня Воронина.
– Так не врут наши брехуны? Решились все-таки жениться?
Граф смущенно улыбнулся, махнул рукой.
– Что ж решаться, когда почти двадцать лет живем мужем и женой? Дети взрослые, старшего в этом году намерен определять в университет… Кем он там будет? Бастардом? Незаконнорожденным? На переправе коней не меняют, новой жены мне уже не взять, а Зина… Видит бог, она достойна быть графиней.
– Что ж, дело. Зинка-то не приедет в хор похвастаться?
– Приедет, отчего же. Ждите после Покрова.
Граф простился коротким наклоном головы и заспешил к выходу. Старый цыган проводил его взглядом, закрыл глаза. В сенях кто-то из половых оставил керосиновую лампу. Она горела, чадя сизым дымом, и в ее свете лицо хоревода показалось бы случайно заглянувшему сюда совсем старым, усталым и измученным. С минуту он стоял не двигаясь; затем, прислонив гитару к стене, сделал несколько шагов по коридору, нащупал в темноте дверную ручку и вышел во двор. Сразу же у него захватило дух от холода, в лицо ударили колючие снежинки. Яков Васильев спустился с крыльца, разбил сапогом кромку льда у последней ступеньки, задрал голову. Над ним глухо шумели облетевшие ветлы. Вдохнув морозного воздуха, старый хоревод потер кулаком лоб. Грустно подумал, что Воронин прав: голосов прежних в хоре нету. Под сердцем засосала знакомая боль. Не прошедшая, не утихшая за годы, появляющаяся каждый раз, когда он вспоминал о дочери. О красавице Насте, единственной радости, давным-давно сбежавшей из хора бог знает с кем.
Яков Васильев вспомнил далекий 1879 год, первый год после турецкой войны, Москву, наводненную военными, полные рестораны, сверкающие Георгиевские кресты, эполеты, загорелые лица офицеров, героев Плевны и Шипки, и – Настю. Свою шестнадцатилетнюю дочку, солистку хора, певицу с таким голосом, какого Яков Васильев никогда не слыхал прежде и не услышит, это он знал точно, до самой смерти.
Даже не будь Настька его дочерью, Яков Васильев не побоялся бы поклясться на иконе: подобной красоты еще не родил свет. Тоненькая, смуглая, косы до колен, вьющаяся прядка у виска, брови вразлет, глаза – тьма-тьмущая без дна… И голос, какой у нее был голос… На всю Москву гремела слава Насти Васильевой, в ресторан Осетрова съезжались слушать «несравненную Настю» купцы и дворяне, шампанское лилось реками, деньги сыпались, как снег. У Якова Васильева валялся в ногах цвет московской знати, умоляя отдать дочь за любую цену, но хоревод не соглашался. Настька и слышать не хотела о том, чтобы идти на содержание, сама никого не любила, и хоревод отказывал поклонникам дочери раз за разом, ничуть не переживая из-за этого и зная, что, покуда Настька в хоре, с голоду они точно не умрут.
А потом появился князь Сбежнев. Отпрыск старинного, но обедневшего дворянского рода, герой войны, георгиевский кавалер, синеглазый красавец с мягкой улыбкой. Начал он с того, что сказал и Насте, и ее отцу, что не собирается брать певицу на содержание, а хочет жениться на ней. Настя заколебалась, однако Яков Васильев не утратил здравого смысла и поставил еще одно условие: сорок тысяч. Сумма была очень значительная; более того, хоревод не сомневался, что у князя ее нет, и рассчитывал получить хотя бы половину названного. Однако Сбежнев с легкостью согласился, и Яков Васильев сразу пожалел, что не запросил пятьдесят. Чтобы собрать нужные деньги, князь уехал в родовое имение и вернулся через полгода, зимой, с деньгами и готовностью немедленно вести Настю к алтарю.