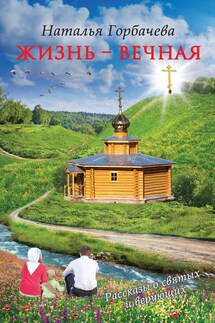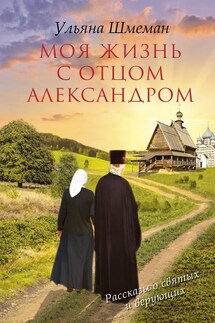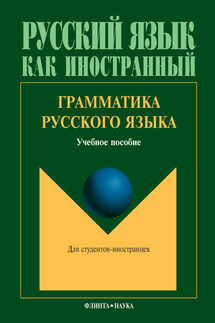Совсем не страшно, не больно, не тепло, не холодно
Врач сказал, операция будет довольно сложной, и мне надо серьезно к ней подготовиться. Составить у нотариуса завещание, отнести комнатные цветы, кота и рыбок родителям или друзьям, прибрать все личные вещи и… не волноваться.
Последнее может только усугубить мое нынешнее состояние, а это сейчас нежелательно.
Я молча слушаю. В ординаторской открыто окно, и ветер нервно, совсем по-человечески теребит шторы. «И пожалуйста, не забудьте подстричься, – заключил медик, – коротко, очень коротко. Все равно вам перед операцией голову побреем. Так что постарайтесь хотя бы немножечко облегчить нам задачу и подготовиться сами. И пожалуйста, не задерживайтесь утром…»
В коридоре поликлиники непривычно тихо.
Я иду по бледно-желтому линолеуму, который только что помыли хлоркой, мой тридцать девятый быстро делает отражения-отпечатки. Раз-раз-раз. Новенькие туфли умело подчеркивают стройные бледные ноги, я бы сказала даже худые, но не скажу, надо себя любить. Хотя бы теперь, накануне, а потом…
О, как я не права!
Если я буду где-то, пусть и вне тела, значит, там тоже будет любовь. Я почему-то в этом уверена. Иногда. Что за странность? Уезжать из родного гнезда в семнадцать, безнадежно ломать жизнь среди чужих людей, а потом удивляться, почему в больнице никто не навещает. Да очень просто. Не нужна я в этом мире ни-ко-му, кроме одного маленького человечка, который уверен, что я повелеваю звездами, людьми, машинами, ветрами и бурями и вообще всем, что есть в этом огромном мире, он меня называет своей мамой, а я его сыном.
Я – Арина Райдер, двадцатипятилетний безнадежно больной журналист.
Природа прощается со мной как может. Холодный ветер забрасывает меня гнилыми листьями, придорожным мусором.
По дороге быстро ездят грязные машины. Мчатся, будто торопятся изо всех сил на тот свет. Я их понимаю. Этот не слишком привлекателен. Иду медленно. Сегодня я последний раз иду по этой тропинке, одинокие прохожие моей медлительности удивляются, зачем, спрашивается, подолгу смотреть, да еще так внимательно, на окружающую серость? Отовсюду проступающий густой мрак. Так бывает только ранней весной или поздней осенью.
По правде сказать, я всегда серости боялась. Еще в детстве меня пугала сама мысль стать таким же потребителем, как все, смотреть тупо целыми днями телевизор, хлопать коврики на детской площадке, запасаться вареньями-соленьями на всю зиму с таким остервенением, как будто на всю оставшуюся жизнь. И жить, как живут все вокруг, ну или почти все – сезонами редиски.
Мерещился мир, полный солнца, цветов и красивых замков.
Одно время даже обшарпанный подъезд, в котором я живу, стал вдруг напоминать большой старинный корабль, устремляющийся в неведомое, а потому, безусловно, прекрасное пространство, и тогда я поняла: все, больна. Стали мучить ночами кошмары, а затем появились приступы боли и беспамятства. Через полгода силы медленно начали оставлять меня. Приходила слабость, а вместе с ней и непонятное успокоение.
Вскоре я поняла его природу: успокоение – это отсутствие сиюминутных желаний, это радость от каждого лучика солнца, от каждого придорожного цветка, это осознание ценности настоящего момента, который уже поэтому прекрасный и, несомненно, самый важный. И нет ничего светлее этой радости.
Примечательно, но, несмотря на наличие денег, меня вдруг стали сторониться цыганки.
Этому объяснения я не знаю, ведь в моей студенческой молодости, когда перебивалась с хлеба на воду, смуглые представители городского кочевого племени не давали покоя. «Хорошая моя, дай я тебе погадаю!» – сколько раз слышала я эти слова в свой адрес. И бежала, бежала от них, стараясь не смотреть в глаза цыганам, кто не слышал об их гипнозе? Об их поистине уникальных воровских талантах? Как же они почувствовали, что это все? Все? Проходили мимо, стараясь не смотреть на меня, и от этого становилось не по себе. Теперь самой просто так хотелось им денег дать, но они обычно шли мимо все как одна, не глядя в мою сторону.
Цветы я долго поливала, а потом вместе с рыбками и котом отнесла это добро соседке, сказала, еду срочно в командировку. Любопытная соседка на этот раз почему-то не спросила, куда еду и надолго ли? Посмотрела с какой-то не то грустью, не то сожалением и сказала, чтобы я за свое имущество не волновалась, она все сохранит в лучшем виде.
Но самое горькое в сегодняшнем дне, что напоследок нельзя даже выпить вина. А как хочется.
Зажигаю свечу и начинаю молиться. «Отче наш, иже еси на небеси и на земли…» – четко представляю небо со всем содержимым и чувствую, ухожу, ухожу безвозвратно…
Кто-то сказал, в молитве человек соединяется с Богом. Так вот это не совсем так. Человек соединяется с Богом в самой искренней молитве, а значит, последней. Мгновение. И я уже вижу себя со стороны. Чуть пухлое лицо, толстые косы. Какая глупость, жить на земле и грустить.
В детстве я слышала такую легенду: когда рождается человек, Господь посылает ему с неба душу. Чтобы мизерное облако долетело до земли, Он прикрепляет к ней зерно. Где человек родился, там оно и приземляется, и со временем вместе с взрослением человека вырастает в большое дерево. Чтобы это дерево всегда было полным жизни, человеку нужно творить добрые дела, радоваться, честно выполнять свое предназначение, и тогда – невидимое миру дерево благоухает, как плакучая верба весной, посаженная возле полноводного озера. А когда человек грустит, злится, оно начинает сохнуть, сбрасывать листья, ветки, а потом и вовсе гибнет и отпускает душу.