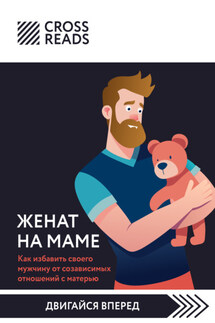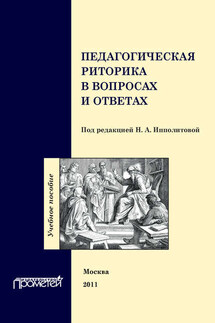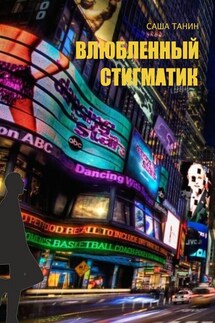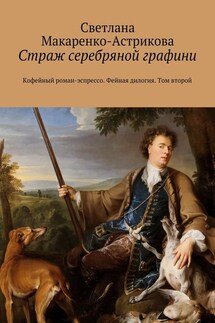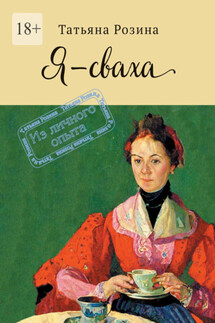Нас не было тогда на свете,
Но в памяти отражена
Та, незабвенная весна,
Мы тоже за нее в ответе.
Этот город был далеко от войны. Он не знал маскировки, перечеркнутых бумажными полосками окон, развалин. Но война пришла и сюда. Сначала ее узнавали, толпясь у хрипящих репродукторов, провожая на фронт близких и незнакомых, работая по-новому, для войны. Потом город узнал, что такое смерть. Только сюда смерть приходила как-то спокойно, по-канцелярски, а потому особенно страшно: просто узенькая бумажка, у которой уже появилось имя – похоронка.
Война приезжала в прокопченных теплушках, битком набитых эвакуированными, в строгих и тревожных санитарных поездах. И постепенно вошла в быт, обернулась мелкими житейскими неурядицами, да и прижилась…
Из квартиры стали уходить вещи. О первых еще тосковали, как о чем-то дорогом, потерянном невозвратно. Потом привыкли. На всю зиму застыли батареи парового отопления, в форточки потянулись кривые шеи «буржуек». Электричества не хватало, и тоненькие, слабые язычки коптилок усердно, но тщетно стали слизывать темноту.
Люди привыкают ко всему. Привыкли и к этому. Постаревшая, изуродованная и даже уже приспособившаяся к своему уродству жизнь продолжалась.
А Ефросинья Петровна не могла никак успокоиться. Она подолгу пропадала на заводе, хотя у нее, рядового заводского бухгалтера, не очень-то прибавилось работы. Приходя домой, слушала радио и плакала потихоньку, будто оставленный нашими войсками город – ее родной город, и даже представляла себе какой-то уютный домик на окраине, обязательно с березкой и старенькими ходиками. Представляла, как этот домик горит, а ходики стали, потому что хозяева погибли и некому их завести. И потом целый день ходила с красными глазами и сморкалась в продранный кружевной платок.
– Что с вами? – спрашивали ее сослуживцы. Но она только сморкалась, отводила глаза и вздыхала.
Однажды в комнату Ефросиньи Петровны протянулись через чисто вымытую кухню две дорожки мокрых, холодных следов. Одни следы были большие, сбивчивые, другие – маленькие, торопливые. Две фигурки в зябких пальто несмело остановились на пороге. Осунувшаяся женщина, будто извиняясь, суетливо рылась в сумочке, когда-то лакированной, а теперь покрытой тонкой сетью морщин, но не старческих, а каких-то болезненных, преждевременных. Рядом переминалась маленькая серьезная девочка, все время поправлявшая старое одеяльце, в которое была завернута кукла. Руки у девочки были красные и неповоротливые от мороза, но она все поправляла одеяльце и пришептывала:
– Видишь, здесь тепло, Светка. Ты теперь согреешься, ты спи, ты не плачь.
А у женщины из сумки посыпались разные бумажки: узкая похоронка, истрепанное свидетельство о рождении, какие-то телеграфные квитанции, хлебные карточки. Она все извинялась, спешила и наконец протянула Ефросинье Петровне бумажку, где было написано, что эвакуированная из Воронежа учительница Л.М. Сорокина с дочкой будут жить у Е.П. Нестеровой.
Ефросинья Петровна забегала по комнате, стала усаживать гостей и вдруг вспомнила, что они не разделись, кинулась раздевать девочку, волнуясь и все путая. Девочка сказала: «Я сама».
Она разделась, неторопливо, чинно и аккуратно складывая на сундук свою незамысловатую одежду. Раздевшись, подошла к матери и, не говоря ни слова, стала снимать с ее ног ботинки, опустившись на колени.
Ефросинья Петровна бросилась помогать, и тогда девочка вместо благодарности подняла большие, по-взрослому усталые глаза и проговорила коротко:
– Она больная. И устала. Мы замерзли. Мне ничего, а она – больная.
Наконец женщину раздели и уложили. Ефросинья Петровна сняла довоенный пуховый платок, подаренный еще покойным мужем, и укутала ноги гостьи. Женщина все время молчала, только часто-часто моргала, а когда ее уложили, заплакала, тихо, будто боялась помешать окружающим. Девочка погладила ее руку и прошептала:
– Ну не надо, мы же договорились. Не надо. Теперь все будет хорошо.
– Да, да, все будет хорошо, – машинально повторила Ефросинья Петровна и побежала на кухню за чаем и хлебом.
Выглянула соседка:
– Кто это у вас? Ох, наследили-то как! Вы бы хоть вытерли.
– Да, да, я сейчас, – заторопилась Ефросинья Петровна. – Эвакуированные это, из Воронежа. Женщина совсем плоха, а девчушка, будто взрослая, серьезничает все, но, видно, здорово есть хочет. Я уж соберу поскорее, что найдется.
Соседка сглотнула слюну, моргнула, постояла, борясь с собой. И вдруг, решившись, буркнула:
– Погодите немного.
Она исчезла у себя в комнате, загремела посудой, что-то уронила, чертыхнулась и наконец вынесла блюдце с лохматыми кусками застывшего джема.
– Вот. Дайте девчонке. Сегодня случайно в шахтерской столовой достала.
Ефросинья Петровна, постелив на стол старую, стертую на сгибах клеенку, несколько раз переставила стаканы с места на место, передвинула блюдце и воткнула в джем витую серебряную ложечку, которая почему-то оказалась непроданной, начала резать хлеб тонкими красивыми кусочками, но, посмотрев на женщину, раскроила на большие аппетитные ломти. Потом глянула на стол с сожалением: не получилось сервировки, – и вздохнула.