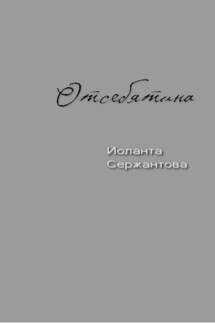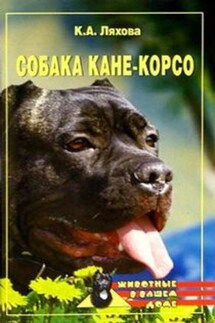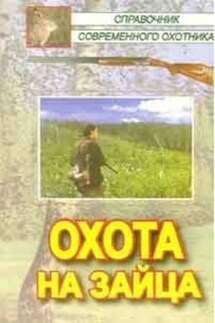Моя милая тётушка, которую я любил всем сердцем, помимо массы достоинств, обладала некой безобидной странностью, которая отличала её от прочих. Иногда во время разговора, чтения или обеда, сколь бы парадным тот ни был, она замирала и красиво, несколько по-змеиному подняв подбородок кверху, мечтательно улыбалась. Бывало, что сим дело и заканчивалось, реже тётушка прибавляла к этому, легко касаясь шеи, словно до чужой. Со стороны казалось, что она проверяет, – достаточно ли та упруга и не пора ли надевать кружевной воротник, дабы скрыть заметную ей одной дряблость.
Я не придавал этой причуде никакого значение, ибо привык к ней с детства, но малознакомые особы, бывало, прыскали в салфетку, или недоуменно воздевали брови ближе к начёсу, неодобрительно поджимая губы.
Надо сказать, что тётушка была более, чем церемонна, но безмерно добра, поэтому, уравнивая умышленную и непреднамеренную невоспитанность, она не относила к себе всякие проявления излишнего любопытства, и никогда, ни при ком не изменяла своей привычке.
Вообще же, наблюдать за тем, как вкушает тётушка, было истинным наслаждением. Будь то самая простая пища или деликатное блюдо, приготовленное для неё одной или для гостей, стол сервировался по всем правилам: серебряные столовые приборы, хрустальные вазочки, обширные тарелки рисового фарфора, да множество иных мелочей, радующих глаз, возбуждающих аппетит и пробуждающих утончённость.
Я любил бывать у тётушки! И в пору юности, и позже, когда изо всего многочисленного семейства, казалось, только у неё одной имелось вдоволь терпения, дабы выслушивать про мои безумства и прожекты. Снисходя к неопытности любимого племянника, тётушка находила верные слова, чтобы направить мою энергию в нужное русло, не ущемляя самолюбия.
В тот день, когда тётушка ушла в лучший мир, я был воистину безутешен. Разглядывая её неплотно сомкнутые веки, рыдал и напрасно тщился перехватить взгляд голубых, некогда прекрасных глаз, что глядели мимо меня, мимо жизни, рассматривая подробности той вечности, которая поджидает каждого.
Вконец разбитый и в крайнем расстройстве нервов, я оставил свет, поселившись в имении, доставшемся мне от тётушки. Полный горьких сожалений, я никого не принимал, подолгу спал и бродил по окрестностям, покуда однажды…
Крупный змей с массивной треугольной головой не напугал меня своим неожиданным появлением. Едва статное его тело, повторив изгиб берега пруда, полностью утвердилось на нём, я был сражён и размерами, и самоуверенностью незваного гостя. Невзирая на мои притоптывания и пришепётывания, змей не уделил мне довольно внимания. Так только, взглянул равнодушно, и не откладывая дела в долгий ящик, с неописуемым удовольствием принялся бесшумно хлебать горячую, согретую солнцем воду с тёплого листа кувшинки, словно бы из блюдца. Было похоже, что он чаёвничает, но, сберегая цвет лица, пьёт один кипяток. Повторюсь, я был обескуражен, даже повержен его бесцеремонностью. Вероятно, змей знал обо мне нечто, что позволило ему не опасаться моего присутствия. Либо он не видел во мне человека1, либо определённо угадывал его во мне2.
Отпив от пруда ровно столько, сколь было необходимо для утоления жажды и так долго, как требовало того чувство собственного достоинства, змей, до боли знакомым жестом потянулся, чуть задрав голову кверху, и… исчез, словно бы его и не было никогда.
Но ведь он был… был …был!
Эта встреча вернула меня к себе. С новой силой я принялся за старое, совершая то, чем восхищалась моя милая тётушка и за что порицали иные.
Так в омут каких пороков я окунулся с головой, и чем же был занят по всякую минуту?! Да жизнью, жизнью, помилуйте, чем же, чем ещё?!.
Ночная бабочка, спасённая мной накануне из воды, лежала теперь совершенно похожая на созревшее крылатое семя клёна. Ещё вчера, отдавшись на волю судьбы, она уже была готова опуститься на дно пруда, но ощутив одно лишь моё желание помочь, встрепенулась и охотно ухватилась за протянутую руку.
Мгновение перед тем, когда она совсем почти простилась с этим светом, а безразличие к себе вовсе сравнялась с небытием, коему не стоило ни единого усилия, дабы поглотить её всю, без остатка, нечто вмешалось в естественный ход событий… и я услыхал последнее биение мягких от воды крыльев о воду. Неслышное вовсе уху, оно колоколом взывало к моей душе. Часто неловкий, в те мгновения я отметил усилие, которое сделало над собой время, дабы дать мне случай успеть прийти на помощь.
Сияя влажными глазами из-за слёз о перенесённом ужасе, бабочка сгоняла с лица капли уныния и кланялась без счёта, спеша поблагодарить до того, как немощь овладеет ею и сознание покинет измученное предвкушением близкой гибели тело.
– Ну, ты! – Подбадривал я, одобряя первый шаг бабочки с руки на траву. – Ступай-ка себе, обсохни, согрейся. Эк, тебя развезло…
Демонстрируя охоту к послушанию, считая себя в известной мере обязанной подчиниться, а заодно выражая душевный трепет мельтешением крыл, бабочка шагнула в траву, где и пробыла там до самого вечера. Мне точно известно про то, ибо нельзя, проявив заботу единожды, остановиться на середине пути, и не повторить того же ещё и ещё. Но ночь… Ночью я спал! Безмятежно, умиротворённо и беспечно.