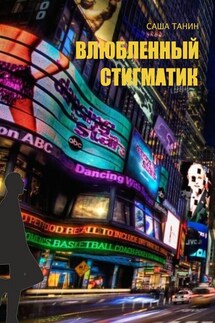Помнишь, однажды я сказала тебе: всякое место, где мы живём, становится нашим. Посмотри сюда – вот мой город.
Золотым медальоном падает на траченный асфальт пятнадцать обеденных минут в том месте, где к стеклу нашей машины склоняется индейцеобразный перуанец с золотой серьгой и золотом на пальце:
– Подбросишь?
Глория тормозит за десять метров от многоэтажных трущоб.
– Кока.
– Что?
– Кокаин.
– ?!
– А что ещё в этом районе делать? Идёт. Быстро же он обернулся.
– Хотите пива, сеньоры? – черномазый мальчишка пытается по-английски продать нам товар.
– Нет, спасибо, – Глория ржёт под стать своему лошадиному лицу. – У нас физиономии американские. Достал?
– ?
– Да не бойся, она всё знает. Дай попробовать.
Улица залита утренним солнцем, когда ты выбегаешь из кафе, выкрикивая моё имя.
У тебя тёмное лицо, мой город, руки врача, взгляд художника и речь журналиста.
"Белянка", – говорят мне лоточники на улице, заваленной помоями, где однажды нищий попросил у меня половину куриного тамаля[1].
На моём пути камни чудесных особнячков под полуденным солнцем, лапы пальм и гигантских кактусов, пронзительно сиреневое облако невиданного дерева, летящие дождём жёлтые соцветья, пахнущие нашей липой.
У тебя влюблённые глаза, мой город, и интонация надежды. Ты встретишь меня издали и крепко сожмёшь мне руки, когда я вернусь.
Никогда не думала, что буду так близко к сердцу принимать чужую страну.
Маленькая женщина, поражённая волчанкой, пришёптывая в потоке своей стремительной речи, перебирает фарфоровыми пальчиками только что написанный материал. Это Лина Бенетти, культуролог и эссеист, бывший директор Государственного Архива, только что уволенная министром культуры – "воинствующим Карлучо". Казалось бы, что мне она, золотоволосая латиноамериканка европейского происхождения.
Рядом с ней её знаменитый муж Висенте Арройо, я читала его ещё у себя на родине, но не представляла похожим на писателей своей страны – тяжёлый взгляд, мятежный дух. Проработав тринадцать лет в Министерстве Культуры заведующим Отделом художественного творчества, в одночасье оказался за его дверями стараниями того же Карлучо. Джон Далвера, известный художник и поэт, внешне неожиданно похожий на сорокалетнего Никиту Михалкова, изо всех троих был уволен первым. В этом печальном ряду уволенных не хватает нашего юного Вальтера, единственного, кого не тронул Карлучо, то ли побоявшись его знаменитой тётки-адвоката Иды Флетчер, то ли не угадав в выпускнике колледжа врага.
– Слушай внимательно, – уговаривает меня Вальтер по телефону, когда весть об увольнении Висенте и Лины достигает моего сознания, – положись на нас, успокойся.