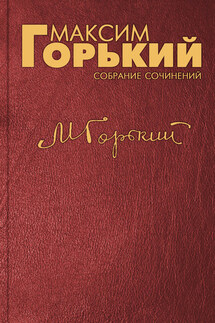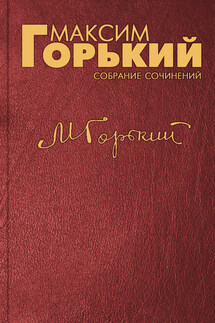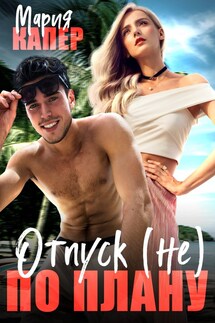Оказывается, императрица Елизавета Петровна
однажды на балу, увидев у фрейлины Лопухиной
такую же розу в прическе,
заставила виноватую встать на колени,
срезала преступную розу с прядью волос,
еще и два раза Лопухину ударила.
Какая же ты дура, Лиза.
Меняется запах с возрастом,
роза уже пахнет не так,
волосы пахнут не так, подмышки,
и только долгая злая память
лежит черновиком на подоконнике
и пахнет свежевысушенным розмарином.
Только вряд ли в восемнадцатом веке в России
на кухне использовали розмарин.
Только представить себе: никогда не одна,
рядом всегда какие-то условные мы.
И тоже, наверно, сходила с ума от зимы,
и тоже, наверно, сходила с ума зима.
И вот в середине одной из этих бескрайних зим
край все-таки наступил и горлом пошла она,
смертная, старческая, не голубая
в три часа пополудни пятого января.
И бедная Лиза-старушка туда поплыла,
ничего в этой смерти не понимая.
У меня на кухне растет розмарин,
кто-то принес в горшочке, вот и растет,
прижился, прибился одной бесконечной зимой,
рассказывает мне на своем лекарственном языке свои лживые детские сказки:
дескать, когда-то, когда Святое семейство держало свой путь в Египет,
Дева Мария положила младенца Иисуса на камни,
под скромный такой кустарник в белых цветочках.
Это и был розмарин,
только другого цвета.
И вдруг белый цвет превратился в небесный.
Злая память не может пахнуть высушенным розмарином.
Только добрая память пахнет камфорой и сосною.
Два только раза, оказывается, плакал Наполеон,
когда уже был императором,
оба раза по своим генералам.
А в детстве, наверно, вообще не плакал,
только мучил двух братьев,
одного бил, другого кусал,
и всегда успевал первым наябедничать матери,
так что наказывали искусанного и побитого,
в общем, та еще сволочь была.
Два раза отрекался Наполеон от престола,
в последний раз в пользу сына: бедный ребенок,
ведь если ты взрослый,
но закроешь глаза и сложишь ладони,
как будто ты молишься или молишь,
то эти ладони в прыгающей темноте покажутся тебе детскими.
Я закрыл глаза, сложил ладони,
они оказались дитячьими:
там небитый небитого на руках несет,
там цыплячий бисер цыпленка зовет,
тот клюет его, как с голодного края, клюет.
А мама у цыпленка лиса сверхтревожная,
говорит: не жадничай, клюй осторожно,
а то будешь желудком опять болеть,
за живот, крылышкуя, хвататься.
А цыпленок ей (или я) в ответ:
Не хочу открывать глаза, не хочу сюда просыпаться.
Анна Ахматова однажды сказала,
когда выходила ее послеопальная книга,
сильно почиканная советской цензурой,
так, что остались там только рожки да ножки, пейзажные зарисовки:
«Что сможет сказать про меня современный читатель?
Эта дама очень любила гулять».
Когда мои сны
собираются в книгу,
я листаю ее, смотрю,
там написано «спал», тут написано «сплю»,
тут написано «не просыпаясь», тут написано «сон»,
думаю: «Что скажет про меня современный читатель?»
Современный читатель все это современно читает,
решает:
«Этот человек средних лет
очень любил поспать».
Я люблю видеть синие улицы,
я любил кого-то из вас,
я любил неожиданный удар повторяющейся шутки
(есть шутки, которые бывают смешными только на третий раз).
Я люблю рифму на «-ать» и «-ться».
Умирать, воскресать, прощаться.
А еще я люблю этой неожиданный вывих солнечного воздуха,
когда дым плывет по нему,
когда
на фотографии вдруг выпрыгивает синяя точка,
очевидный оптический брак,
как неверный пароль к рутубу, который ты десять лет назад потерял,
а там остались видео прежнего счастья,
которые ты бы хотел безвозвратно стереть
(дурак, это и было твое безвозвратное счастье),
все это блямкает, лепечет, плачет, струится,
потом костенеет, стареет, как придуманный старый орел и орлица,
про которых говорят,
что, когда им исполняется сорок лет,
клюв их становится слишком длинным и слишком тяжелым,
а когти на лапах дубеют и отрастают
(ими трудно когтить добычу),
а перья давно уже превратились в кольчугу,
в ней невозможно дышать и в ней невозможно взлететь.
Тогда орел от всего этого избавляется:
сбивает о камни свой клюв, вырывает когти и перья.
И так живет где-то в труднодоступных местах,
пока все не вырастет заново.
Потом оказалось, что это всего лишь легенда,
псевдонаучная чушь.
«Но я ее запомнила, – жизнь говорит, —
она может быть Вам интересна».
И будет только снег, и снег, и снег
на всех дорогах и на всех путях,
и будет только снег, и бог, и свет
во всех немых и вымерших сетях.
Ни фейка, ни упавшего в себя —
не что-то сложное, а что-нибудь простое —