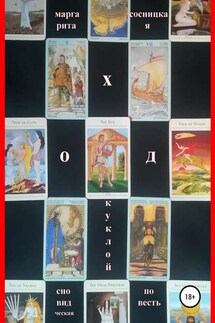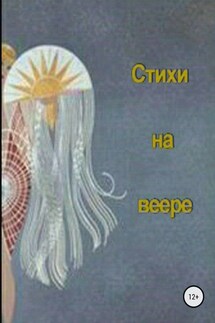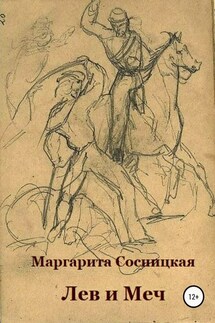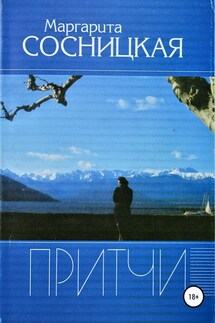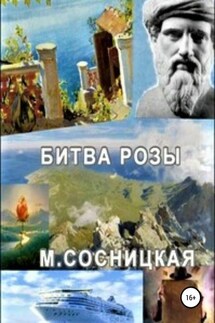Богомазами на Украине называли иконописцев. Прозвище это переходило к детям и внукам в качестве фамилии. У богомаза Серафима детей не было. Он жил монахом, хотя схимы никогда не принимал. Его имущество заключалось в деревянном ящике с углями, клеем, прорисями и подрумянками, который он сначала носил на ремне через плечо, а со временем приделал два колеса и ручку и возил за собой. Он ходил от церкви к церкви и либо расписывал стены, либо подновлял старые росписи, либо писал иконы для иконостаса и прихожан; прослышав о его появлении, они шли к нему с просьбами написать кому Богородицу, кому Пантелеймона всецелителя, кому Чудотворца. Нередко просили об иконе своего ангела, хранителя на небесах.
Серафим никому не отказывал и жил при церкви, пока выполнял все заказы. Люди, не только те, которым он писал, но все окрестные жители несли ему еду, когда надо, одежду и древесину, из которой он делал доски для икон.
Питался Серафим так, что от приношений ему кормились перехожие нищие, не переводящиеся на паперти. Круглый год у Серафима был пост: от объедания рука тяжелеет, а для иконописания надобна легкая рука. Писать Серафим принимался на рассвете; вставал и того раньше, молился и садился перед доской. Устремлял взгляд в поле и долго смотрел, будто хотел увидеть отблеск мира немирного, и видел того, чей образ сбирался изображать: Серафима ли Саровского, Святого ли Александра Невского, Богоматерь ли Владимирскую. И линии безошибочно ложились на белое поле доски – поправлять или переделывать не приходилось.
В лицах святых все просто и открыто, черты прямы и величественны, уста смирены постом, глаза из-под широких век устремлены в душу молящегося. Ничего лишнего. Лики ясны и спокойны, душа умыта молитвой. Ни смятенья, ни смуты. Иногда суровость; но Серафим больше любит писать Пантелеймона, радостного, светлого юношу в ярком синем или красном плаще. Его Пантелеймоны пышут здоровьем, щеки их румяны, а глаза веселы. Глядя на такого, не то, что хворый выздоровеет – Лазарь воскреснет.
Любил Серафим и Александра Невского; он выходил у него суровым, даже грозным, и воина-князя в нем было больше, чем святого.
Но любимейшим из всех святых, просиявших в земле Русской, был тезоименник Серафима старец Саровский. Он до вечерних зарниц мог выписывать его мягкую пушистую бороду, плавные переходы ее от черноты до седины, растушевывать тени на впалых щеках, выводить узоры на епитрахили и рукавах. Ни одной резкой линии, ни одного выкрика или угла – все полушепотом, все округло, смягчено, елейно.
Иконы свои Серафим называл сретениями: каждая из них была свидетелем его встречи со святым. Икону видели люди и тоже встречались с этим святым, забирали и уносили в свои углы – святой поселялся в их доме.
А Серафим шел дальше, в другое село, в другую церковь. За ним по нахоженной дороге дребезжал, пылил на колесах дощатый ящик с углями, красками и вохрениями.
Однажды по весне, когда Серафим трудился над золочением Царских врат во храме Георгия-воина городка Т-ска, увидел он на службе молодую княжну Гайворонцеву и понял, ни годы поста, ни святости не смирили в нем кровь – в сердце его, не знавшем иной любви, кроме любви к святым, загорелась любовь к женщине.
Серафим быстро вышел из храма, долго бродил среди высоких трав, травы хлестали его по лицу, по рукам, но он ничего не чувствовал. Он думал о жизни с женой и не видел в ней места своим угодникам и целителям.
На следующий день Серафим стал собираться в дорогу. Пошел проститься со священником – и на пороге храма столкнулся с княжной Гайворонцевой. В ее голубых глазах вспыхнуло две свечи – она опустила взор.
– Мне нужен для моей опочивальни образ Божьей матери, – прошептала она.
– Неужто нет? – Серафим не заметил, что и он шепчет.
– Есть, конечно. Да Богородица вся покрыта серебряным окладом, а мне ее всю видеть хочется.
– Что ж… Приходите… через неделю, – он помолчал, глаз не поднимая, и прибавил, – к заутрене.
Серафим день не ел.
Молился, уходил в березовую рощу, пил из родника.
День спустя, сел за работу. Смотрит долго в даль и видит, как из голубоватой дымки выходит женская фигура в длинном алом одеянии и идет по направлению к нему. Подходит ближе – и он различает княжну.
Такою он и изобразил Приснодеву. Всепетую Мати. Невесту Неневестную. А с этим понял: княжна вошла в сонм его святителей. А, может, наоборот? Она всегда была там, да он того не знал? И не Приснодева его похожа на княжну, а княжна сошла с его икон, воплотив в себе его Приснодеву?
Как бы там ни замыкалось кольцо, а на седьмое утро, когда еще не успел стихнуть последний малиновый звон, перед Серафимом предстала княжна Гайворонцева, держа в руках свою икону.
– Ты монах? – спрашивала она.
– Нет.
– А жена у тебя есть? – потянулась к нему княжна, как подсолнух к солнцу.
Серафим посмотрел ей в глаза:
– Не могу я на тебе жениться.
– Почему?
– Да что ж это будет! – он схватился за голову.
– Что же? По чину все будет.
– Ты же, – он наклоном головы указал на новую икону, ты… Богородица. Как же возможно на Богородице жениться? Прикоснуться, осквернить.
– Скажи, а дождь, когда падает на землю, орошает ее, и она потом родит пшеницу, золотую, он ее оскверняет?