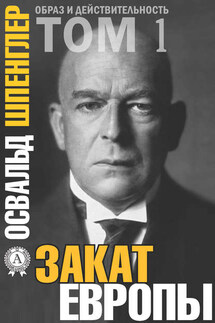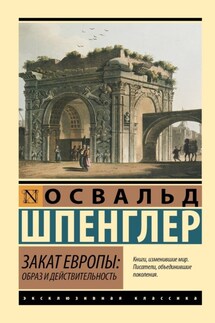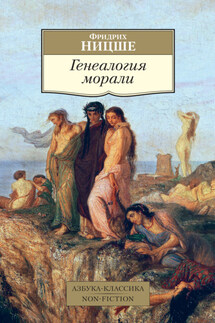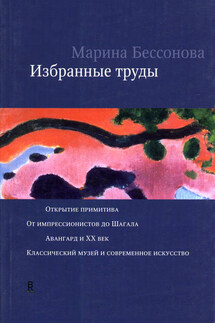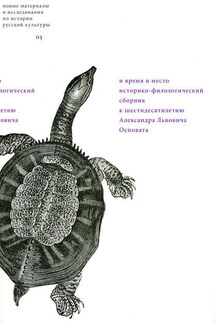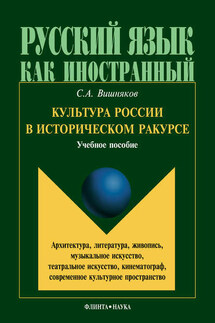Предисловие к исправленному изданию (новая редакция)
При завершении занявшего десять лет жизни труда, который из первого краткого наброска вырос в неожиданно объемистый окончательный вариант, будет, пожалуй, уместно бросить прощальный взгляд на то, чего я желал и чего достиг, каким образом я это отыскал и как на все это смотрю теперь.
Во введении к изданию 1918 г., этом фрагменте как по форме, так и сущностно, я писал, что тут, по моему убеждению, дается неопровержимая формулировка мысли, которую, стоит ее раз высказать, никто уже не возьмется оспаривать. Мне следовало бы сказать: стоит ей быть понятой. Ибо для этого необходимо, как мне все более очевидно, причем не только в данном случае, но и в истории идей вообще, новое поколение, которое уже явилось бы на свет с нужными задатками.
Еще я тогда прибавил, что это – лишь первая проба, отягощенная всеми присущими ей промахами, проба неполная и, разумеется, не лишенная внутренних противоречий. Однако замечание это не было воспринято с той серьезностью, которую придавал ему я сам. Всякий, кому удалось заглянуть глубоко в предпосылки живого мышления, знает, что внутренне непротиворечивое узрение последних оснований бытия нам недоступно. Мыслитель – это человек, которому на веку написано символически изобразить свою эпоху через собственные наблюдение и понимание. Ему не остается выбора. Он мыслит так, как должен мыслить, и в конечном счете для него истинно то, что явилось на свет вместе с ним в качестве картины его мира. Вот то, что он не измышляет, но открывает в себе самом. Это его двойник, собственная его сущность, ухваченная в слове, оформленный в учение смысл его личности, неизменный для его жизни, потому что он тождествен своей жизни. Необходим лишь этот символический момент, вместилище и выражение человеческой истории. Все же возникающее как порождение философской учености – излишне и только множит залежи специальной литературы.
Так что да будет мне позволено назвать суть мною открытого лишь словом «истинное», истинное для меня, и, как я полагаю, для ведущих умов грядущего, а не истинное «само по себе», т. е. в отвлечении от условий крови и истории, потому что такого не существует в природе. Однако все записанное мной посреди бури и натиска{2} тех лет было, разумеется, лишь чрезвычайно несовершенным выражением того, что до отчетливости ясно маячило передо мной, так что задачей последующих лет являлось придание моим мыслям убедительного вида – на том уровне, который для меня достижим, – через расстановку фактов и оттачивание словесной формы, в которую они облечены.
Довести этот вид до совершенства не удастся никогда, ведь и саму жизнь доводит до совершенства только смерть. Однако мной была предпринята еще одна попытка поднять даже самые ранние части рукописи на ту высоту наглядного изложения, которая доступна мне на настоящую минуту, и тем самым я расстаюсь со своим трудом – с его надеждами и разочарованиями, его достоинствами и промахами.
Между тем достигнутые результаты оказались вполне обнадеживающими для меня, – как, впрочем, и для других, если мне позволено судить по тому действию, которое результаты эти начинают неспешно оказывать на отдаленные области знания. Тем резче следует мне обозначить ту границу, которую я наметил в этой книге для самого себя. В ней не следует искать всего. В ней содержится лишь одна сторона того, что вижу я перед собой, новый взгляд исключительно на одну лишь историю, философию судьбы, причем первую в своем роде. Книга эта отличается наглядностью от начала и до конца, будучи написана таким языком, который силится явственно подражать вещам и взаимосвязям, вместо того чтобы заменять их вереницами понятий, и она обращена лишь к тем читателям, кто знает толк в переживании{3} звучания слов, в переживании образов. А это непросто, особенно тогда, когда благоговение перед тайной, Гётево благоговение, не дает нам принимать понятийные членения за глубинные прозрения.
И здесь поднимается вопль насчет пессимизма, тот вопль, с которым вечно-вчерашние набрасываются на всякую мысль, предназначенную исключительно для следопытов завтрашнего дня. Впрочем, я и не писал для тех, кто принимает рассуждение о сути дела за само дело. Кто любит дефиниции, тот не знает судьбы.
Понимать мир – это значит для меня стоять с миром вровень. Важна суровость жизни, а не понятие жизни, как тому учит страусова идеалистическая философия. Тот, кто не дает себя обмануть понятиями, не воспринимает это как пессимизм, а до прочих нам дела нет. Для серьезных читателей, которые ищут взгляда на жизнь, а не определения, я даю (из-за слишком сжатой формы текста – в комментариях) ряд трудов, способных провести этот же взгляд дальше, в более удаленные области нашего знания.
В заключение я испытываю настоятельную потребность еще раз назвать имена, которым я обязан практически всем: Гёте и Ницше. У Гёте я заимствовал метод, у Ницше – постановку вопросов, и если бы мне надо было сформулировать свое отношение к последнему, я бы выразился так: я превратил его прови́дение (Ausblick) в панораму (Überblick). Гёте же по всему своему способу мышления, сам того не зная, был учеником Лейбница. Потому-то я и воспринимаю вышедшее, к собственному моему удивлению, из моих рук как нечто такое, что – несмотря на убожество и мерзость этих лет – с гордостью желал бы назвать по имени: