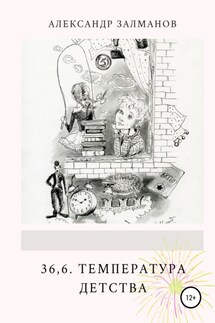Отбойный молоток работал скупыми короткими очередями, выколачивая из Кузьмина жалкие остатки сна. Кузьмин осторожно сел на кровати. Пошарил ногой в поисках тапочек и, не найдя, прошлепал босиком на кухню. Линолеум на кухне был теплым и грязным. Кузьмин открыл холодильник, с тоской посмотрел на припасенную бутылку пива.
«Хорошо бы сегодня ещё добраться до работы», – и припал к банке с малосольными огурцами. Сделал несколько жадных глотков, хрустнул огурцом.
Огурчики мамины, двухдневные, как он любит: уже хрустят, но ещё хранят память о своих свежих предках. Тупо посмотрел на часы. Часы показывали десять.
«К обеду успею».
Кузьмин зафиксировал эту мысль и запустил руку в банку за вторым огурцом. В этот момент бесшумно открылась входная дверь, и в прихожей возник сосед.
Дверь в квартиру Кузьмины никогда не закрывали, если кто-то из них был дома. В первую очередь делалось это для удобства, чтобы визитёры не будили звонками маленьких детей. Отчасти это было модной позой. На дворе стоял 91-й год, ветер перемен порывами задувал весьма ощутимо. Запираться от неизбежного было бессмысленно.
– Будешь?
Кузьмин жестом предложил соседу огурец, не вынимая руки из банки. Сосед так же молча отказался, и мотнул головой в сторону комнаты.
– Машинку дашь?
Эти слова долетели до Кузьмина сквозь пелену похмелья. Он догадался, что речь идёт о пишущей машинке. О его «Эрике». Кормилице. Не за швейной же машинкой жены пришел сосед!
Ещё недавно Кузьмин был неплохим переводчиком. Пожалуй, даже хорошим. Работал быстро, качественно. Строил фразы ёмко и компактно, не забывая при этом про объем печатных знаков, от которых зависел гонорар. Переводил с английского все подряд. От обзоров подвижного состава тайваньского метро до методики искусственного оплодотворения овец. Кузьмин интуитивно понимал, что владение русским языком и уровень общих знаний важнее, чем знание предмета.
К его текстам трудно было придраться. В середине восьмидесятых он уже очень прилично зарабатывал, но сейчас его прежние гонорары выглядели смешно на фоне открывающихся возможностей, да и перспективы карьерного роста наметились. Кузьмин стал отказываться от работы и понемногу выпал из обоймы. «Эрика» томилась под письменным столом.
Давать машинку соседу не хотелось, но вразумительного повода отказать не нашлось, а вступать в неизбежные в этом случае разговоры не было ни времени, ни сил.
– Возьми там, под столом, – язык шершавой тёркой еле ворочался во рту, – а тебе надолго? – уже вдогонку спросил Кузьмин.
– На пару недель, – последовал ответ, и дверь за соседом захлопнулась.
На работе его утреннего отсутствия никто не заметил. НИИ, в котором трудился Кузьмин, к концу восьмидесятых начал разваливаться, рассыпаться на формальные и неформальные коллективы, все ещё давал кров двум тысячам человек.
На строгий пропускной режим махнули рукой. Женщины целыми днями рыскали по округе в поисках еды, мужчины с утра садились за телефон, покупая и продавая несуществующие партии компьютеров, видеокассет, вагоны с тушёнкой, армейским обмундированием, одноразовыми шприцами и прочие блага цивилизации. Были и те, кто продолжал бороться за место в профессии. Витавшие в воздухе надежды на лучшее были основаны на том, что хуже быть уже не может.
Кузьмин понемногу занимался и тем, и другим, и, разумеется, особо не преуспел ни в том, ни в другом. Хотя можно сказать, что кое-чего добился в обеих областях. Например, ему удалось обзавестись личным кабинетом. Кабинет был крошечным, метров десять, а то и меньше. Зато свой, личный. И два личных телефона – городской и местный.
Звонок по внутреннему телефону выдернул его из трясины похмельных страданий и недовольства собой по поводу вчерашнего.
– Кузьмин, ты где пропал?
Она всегда так говорила, намеренно скрещивая «куда пропал» и «где пропадаешь». Ещё недавно этот голос, внутри которого звенел колокольчик с едва заметной трещиной, действовал на него, как миска с едой на собаку Павлова – мгновенным возбуждением. Томкин голос и сейчас звучал призывно. В нем слышалась непритворная нежность, сквозь которую пробивались тревога и обида.
– Где поздравления, поцелуи, цветы? Где подарочек? Или забыл?
Томка не давала возможности ответить, и Кузьмин был благодарен ей за это.
– Если ты думаешь, что лучший подарок это ты сам, то ошибаешься. Ты уже давно не подарок!
Кузьмин оценил игру слов.
– Но если будешь хорошим мальчиком, то я, так и быть, может быть приму от тебя этот подарок.
Трещинка в колокольчике стала более заметной.
Кузьмин хотел было включиться в игру слов, которую так любил, но мысли ворочались туго. Вместо этого он произнес:
– Я бабушку вчера похоронил.
И хотя это было чистой правдой, Кузьмину было неловко. Никаких тягот или хлопот в связи с уходом бабушки у него не было, зато он, как деревенский дурачок, напился на поминках.
– Прости, я не знала… Ты приходи к нам, всё-таки у меня день рождения. Придёшь?
От Томкиного «прости» Кузьмину сделалось горько. Он представил себе нежный овал её лица с едва различимой ложбинкой на кончике носа, серые глаза с чуть расширенными зрачками, тонкую верхнюю губу, опиравшуюся на свою более полную сестрицу. Острая жалость накрыла его.