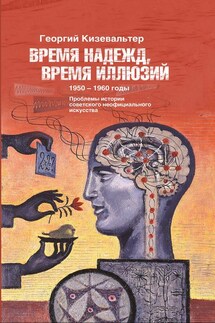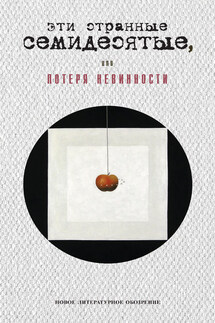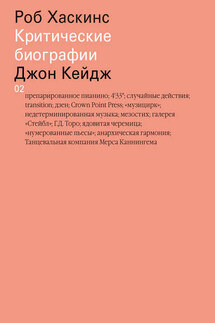Все наше искусство было одним большим коммунальным телом.
Л. Соков
О неофициальном («левом», нонконформистском, независимом и пр.) искусстве уже написано так много толстых роскошных книг, монографий и энциклопедий, что можно с абсолютной уверенностью сказать: никто и никогда уже не поймет, что там правда, а что – миф. Но в какой-то момент я решил, что нужно заглянуть в самое начало этого «левого» искусства, чтобы понять, как и что там было на самом деле. Точнее, в то время, когда его еще не было.
Признаюсь, сам я вплоть до недавнего времени не особо задумывался на эту тему по той простой причине, что как бы «все было ясно». Что было ясно, вы увидите на специальном графике. Однако в прошлом году я занялся темой «проницаемости железного занавеса» в эпоху холодной войны, получил грант на исследование и поехал работать в архив Открытого общества при Центрально-Европейском университете в Будапеште. То, что я там нашел, не то чтобы перевернуло мою картину мира до 1970‐х годов, но, во всяком случае, значительно ее модифицировало.
Прежде всего, я был немало удивлен той тщательностью, с которой архивариусы радиостанций «Свободная Европа» и «Радио Свобода» собирали все, что было связано с темой культуры в СССР. Во-вторых, я увидел, что многое из рассказанного мне еще в 1970‐е старшими коллегами и друзьями не очень-то соответствует фактам. Что мифы порождались с самого начала, намеренно и целенаправленно. Что многого не знали сами художники, но верили, что было так, как им сообщали другие. Последнее, впрочем, неудивительно, потому что мифотворчество связано со стремлением к власти, а память – с уходом актуального на другие «этажи» и естественной забывчивостью. Московская жизнь к тому же славилась еще и своей подозрительностью и изолированностью, в результате чего появлялись анекдоты, когда художники, ушедшие во внутреннюю эмиграцию и много лет прожившие бок о бок в соседних домах, знакомились случайно на коллективных выставках, ничего не зная друг о друге… И потому, вернувшись домой, я шаг за шагом, ниточка за ниточкой стал собирать информацию по 1950‐м и 1960‐м в других источниках.
Об «оттепели» также написано очень много воспоминаний и книг, однако лишь немногие из них касаются глубинных процессов, шедших в культуре того времени. Разумеется, спустя 60 лет целенаправленно восстанавливать события, подлинные эмоции и мотивы действий молодых художников очень трудно. Практически невозможно. Несмотря на всю трогательность «воспоминаний» и «признаний» авторов, и без того вытянутых на «допросах с пристрастием» (это на бумаге все гладко да сладко), красная пыль тщеславия и блеклый флер осторожного целомудрия покрывают ощутимым слоем эти «откровения».
Приближая давно прошедшее к нам, замечу, что так называемая «оттепель» хрущевского времени[1] слишком многими своими начинаниями и процессами напоминает период перестройки Горбачева. Интерес к Советскому Союзу резко возрастает с уходом старых диктаторов-коммунистов: и на Западе, и в стране все жаждут перемен, свежего ветра… Информационные агентства очень хотели увидеть оригинальные элементы культуры, что-то необычайное, что может стать хитом, сделать сенсацию… В это же время иные институты делали все возможное, чтобы не допустить прорыва иной культуры на западный рынок. Последним помогло простое обстоятельство – сильной, конкурентоспособной визуальной культуры не обнаружилось… Но не будем о грустном.
И в 1950‐е, и в 1980‐е советской власти очень хотелось создать «социализм с человеческим лицом», оживить труп советской экономики, хоть как-то приободрить советского человека. Понимая невозможность кардинальных мер, оппозиция не шла на прямую конфронтацию с властью, а также старалась очеловечить коммунистическую идеологию. Характерные и схожие для этих периодов моменты: инициативы разного рода поступали как сверху, так и снизу; в обществе шло широкое обсуждение назревших проблем и острых вопросов, полемический раж зашкаливал – особенно при Хрущеве. С одной стороны, центр пытался стимулировать прогресс, но на периферии все гасло и вязло; с другой – иногда что-то удавалось пробить, что-то реформировать, и тогда уже испуганные местные руководители слали письма в центр, и те сами давили чрезмерно смелые начинания – если не вскоре, то через пару лет, и паритет восстанавливался. Интерпретируя Б. Окуджаву, можно сказать, что зачать давали, а родить запрещали. Страх настоящих перемен приводил к нерешительности, двоемыслию, неспособности что-либо изменить в реальности. Одна рука разрешала и открывала, другая запрещала и закрывала. По нынешним временам ситуацию можно охарактеризовать как «комплекс Голлума», а в те годы это действительно напоминало вечный маятник или «качели», как обозначил этот период еще в 1963 году неназванный американский дипломат[2], а позже повторил писатель Йорик Блюменфельд