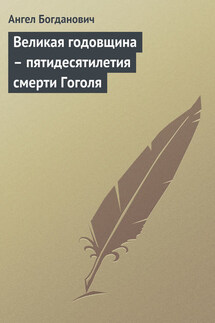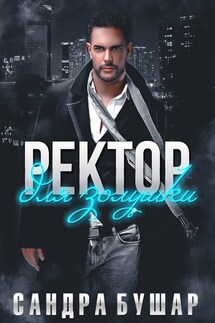Habent sua fata libelli.
Эта старинная пословица невольно вспомнилась намъ, когда мы получили "для отзыва" романъ г. Мордовцева – "Знаменіе времени". Странное чувство не то смущенія, не то удивленія охватило насъ, нѣчто въ родѣ того, что испытываешь, встрѣтивъ совершенно неожиданно стараго знакомаго, съ которымъ давно разстался и давно позабылъ о его существованіи. Книга, гонимая нѣкогда, осѣненная ореоломъ "запрещенной", книга тѣхъ временъ, когда "еще намъ были новы всѣ впечатлѣнія бытія", и теперь выходитъ въ свѣтъ, какъ и всякая другая, и цѣна ей всего два рубля. По истинѣ, воскресеніе изъ мертвыхъ. Только къ новому ли бытію? Не скорѣе ли къ вторичной смерти, и на этотъ разъ уже навсегда? И думается намъ,– скорѣе второе, такъ какъ книги еще могутъ воскресать, но настроеніе, когда-то вызвавшее ихъ къ жизни, не повторяется никогда.
Есть особый сортъ книгъ, которыя въ свое время имѣютъ значеніе вовсе не потому, что онѣ выдаются высокими литературными достоинствами, глубокимъ содержаніемъ, силою чувства, вложеннаго въ нихъ авторомъ. Вовсе нѣтъ,– во всѣхъ этихъ отношеніяхъ онѣ ниже посредственности. Но въ нихъ есть то, что думали и говорили въ это время многіе, что было для многихъ дорого и свято. Читатели того времени встрѣчали въ такой книгѣ живой отголосокъ своихъ чувствъ и мыслей и увлекались книгой, не обращая вниманія на всѣ ея литературныя несовершенства. Даже напротивъ,– именно эти несовершенства въ огромной степени усиливали популярность книги. Грубость изложенія, недостатокъ художественности, рѣжущая прямолинейность книги упрощали ея пониманіе, дѣлая ее доступнѣе для большинства, которое въ книгѣ, такой аляповатой по формѣ, яснѣе и проще разбиралось, чѣмъ въ тонкомъ художественномъ произведеніи, гдѣ, какъ и въ жизни, вовсе нѣтъ подчеркиваній, поясненій отъ автора, что "се левъ, а не собака", какъ писалось подъ аракчеевскими печатями. Никакихъ своихъ мыслей авторъ не преподноситъ читателю въ такой книгѣ. Какъ фонографъ, онъ повторяетъ ходячую въ данную минуту идею именно въ той формѣ, въ которой читатель слышитъ ее, что дѣлаетъ книгу еще любезнѣе для него. Никакихъ новыхъ чувствъ авторъ не выражаетъ,– онъ выражаетъ лишь то, что чувствуютъ если и не всѣ, такъ по крайней мѣрѣ опредѣленная группа. Авторъ ничего не выдумываетъ, онъ только рабски повторяетъ и въ своемъ изложеніи упрощаетъ извѣстное общественное направленіе, иллюстрируя его грубыми примѣрами. По формѣ его произведеніе напоминаетъ издѣліе суздальскаго богомаза, но оно рѣзкими чертами запечатлѣваетъ волнующія въ данную минуту мысли и чувства, что и привлекаетъ къ нему читателя.
Литература освободительной эпохи шестидесятыхъ годовъ была очень богата такими произведеніями. Стоитъ вспомнить романы Шеллера, Омулевскаго, Бажина и многихъ другихъ, теперь основательнѣйшимъ образомъ забытыхъ, писателей, это все – богомазы. Тутъ лица человѣческаго нѣтъ, а тогда все это читалось, поглощалось жадно и страстно и имѣло несомнѣнное вліяніе, потому что отражало въ себѣ настроеніе передовой части тогдашняго общества. Въ противовѣсъ этимъ писателямъ выступали богомазы и изъ противоположнаго лагеря – Клюшниковъ, Маркевичъ и т. п. Настоящая литература стояла въ сторонѣ отъ борющихся теченій и творила въ произведеніяхъ Тургенева, Достоевскаго и Толстого вѣчные, не умирающіе образы, а не иллюстраціи къ излюбленнымъ теоріямъ того или иного направленія. Достоевскій разъ только сдѣлалъ уклоненіе въ сторону злободневности, въ "Бѣсахъ", самомъ неудачномъ изъ своихъ романовъ, хотя и тутъ его громадный талантъ спасъ его если не отъ пошлости, то отъ суздальской живописи.
Однимъ изъ самыхъ характерныхъ образцовъ этой литературы является "Знаменіе времени". Даже для шестидесятыхъ годовъ, въ концѣ которыхъ оно появилось, это произведеніе было выдающимся по грубости формы, прямолинейности и рѣзкости, съ которой подчеркиваются ходячія идеи того времени. Современнымъ читателямъ, людямъ 90-хъ годовъ, даже въ 80-ые годы, уже трудно было проникнуться настроеніемъ этого романа, тѣмъ, что собственно и составляло главную притягательную силу для читателя шестидесятыхъ и семидесятыхъ годовъ.
Съ самаго начала выводится какой-то сумасшедшій, бредъ котораго, повидимому, долженъ заключать въ себѣ нѣчто поразительно глубокое и важное. Вѣроятно, тогдашніе читатели и находили это, но для нынѣшнихъ читателей единственно интересное представляетъ описаніе казни, видѣнной больнымъ, хотя само описаніе сдѣлано чисто по-суздальски, растянуто, съ массой повтореній, въ высокомъ "штилѣ", такъ что даже и эта единственная трагическая сцена въ романѣ не производитъ теперь ни малѣйшаго впечатлѣнія. Этимъ бредомъ романъ начинается и тотъ же бредъ сумасшедшаго, нѣкоего Канадѣева, снова и снова повторяется въ нѣсколькихъ мѣстахъ, но дальше въ немъ ничего нельзя понять. Тутъ есть все: и рѣчи о страданіяхъ человѣчества, и народъ, который мучается въ безсильныхъ порывахъ къ свободѣ, и славяне, терзаемые турками, и много настоящаго безсмысленнаго вздора, который, вѣроятно, и для современниковъ былъ непонятенъ, какъ и для насъ. Но чѣмъ оно было непонятнѣе тогда, тѣмъ лучше, и загипнотизированный читатель видѣлъ въ этихъ сугубо темныхъ мѣстахъ глубину глубинъ и бездну премудрости. Бредъ больного служитъ припѣвомъ къ высокимъ и тягучимъ рѣчамъ, которыми главные герои "романа" разражаются на каждомъ шагу и кстати, и не кстати, лишь бы еще и еще подчеркнуть разницу между "львами" и "собаками".