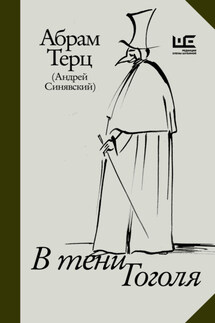Хожу и спрашиваю: – Вы случайно не знаете, как похоронили Гоголя? В смысле – погребли. На какой день, в каком виде? – Никто не знает. Литератор здесь в редкость, книг о Гоголе нет, да и в книгах на эту тему обыкновенно не пишут.
А началось с того, что один старик откуда-то слышал и помнил и поинтересовался у меня в разговоре, правда ли, что Гоголя зарыли живым, преждевременно, и это потом объявилось, чуть ли не в наши дни, когда вскрывали могилу. Говорят, он лежал на боку.
Никогда не слышал. И вдруг меня точно ударило, что всё это так и было, как старик говорит, и я это знал всегда, знал, не имея понятий на этот счет, никаких фактических сведений, но как бы подозревал, допускал, в соответствии с общим выводом из облика и творчества Гоголя. С ним это могло случиться. Уж очень похоже. Уж очень беспокоился Гоголь, что это произойдет, и пытался предостеречь, отвратить. Завещание, которое он предусмотрительно обнародовал за шесть лет до кончины, поверяя тайные страхи целому свету, гласило первым же пунктом:
Завещаю тела моего не погребать по тех пор, пока не покажутся явные признаки разложения. Упоминаю об этом потому, что уже во время самой болезни находили на меня минуты жизненного онемения, сердце и пульс переставали биться… Будучи в жизни своей свидетелем многих печальных событий от нашей неразумной торопливости во всех делах, даже и в таком, как погребение, я возвещаю это здесь в самом начале моего завещания, в надежде, что, может быть, посмертный голос мой напомнит вообще об осмотрительности.
Но он был мнителен, капризен, любил преувеличивать, последние же годы, по мнению многих, страдал душевным расстройством, и его словам, естественно, могли не придать значения. Кто же поверит человеку, напечатавшему завещание в книге, как афишу о собственной смерти, который после этого, словно в насмешку, в издевательство над собой, продолжает жить и жить, измышляя поправки, оправдания на свое завещание и новые заветы, капризы?..
Иногда кажется, что Гоголь умирал всю свою жизнь, и это уже всем надоело. Он специализировался на этом занятии, и сравнение с погребенными заживо вырывалось у него так часто, как если бы мысль о них неотступно его точила и мучила. Не просто – о смерти, но именно – о живом мертвеце, обреченном на физический ужас насильственного погребения. “Страшную муку, видно, терпел он. – Душно мне! душно!..”
Гоголь носил в груди чувство гроба, и пророческий голос его звучал поэтому с какой-то надтреснутой, подземной глухотой, с неприличным подвизгиванием, подвыванием: “Соотечественники! страшно!..”
Несчастный вздрогнул. Ему казалось, что крышка гроба захлопнулась над ним, а стук бревен, заваливших вход его, казался стуком заступа, когда страшная земля валится на последний признак существования человека (“Кровавый бандурист”, 1832).
Подобными намеками, прогнозами – иной раз неосознанными, преподанными с комическим вывертом, в другие же моменты звучащими мрачным, прямым предзнаменованием – полон Гоголь. Сейчас приходится лишь удивляться, как, слыша это – не слышали, видя – не уразумели. Впрочем, сам он заранее дал тому объяснение. Последние десять-двенадцать лет его жизни прошли в тумане того невнятного состояния, о котором он предупреждал в завещании и которое, будучи одной из душевных тайн его, в более обширном размере отразилось на умонастроении Гоголя и его литературных трудах. В статье 1846 года “Исторический живописец Иванов” (Письмо к М.Ю.Вьельегорскому), вошедшей в “Выбранные места из переписки с друзьями”, он так описал этот переходный, как ему рисовалось, на самом же деле большой, завершающий период своей жизни и деятельности:
…Мое душевное состояние до того сделалось странно, что ни одному человеку в мире не мог бы я рассказать его понятно. Силясь открыть хотя бы одну часть себя, я видел тут же перед моими глазами, как моими же словами туманил и кружил голову слушавшему меня человеку, и горько раскаивался за одно даже желанье быть откровенным. Клянусь, бывают так трудны положенья, что их можно уподобить только положенью того человека, который находится в летаргическом сне, который видит сам, как его погребают живого, – и не может даже пошевельнуть пальцем и подать знака, что он еще жив. Нет, храни Бог в эти минуты переходного состоянья душевного пробовать объяснять себя какому-нибудь человеку: нужно бежать к одному Богу, и ни к кому более. Против меня стали несправедливы многие, даже близкие мне люди, и были в то же время совсем невиноваты; я бы сам сделал то же, находясь на их месте.
И это писалось в книге, более всех его сочинений претендовавшей на откровенность, на полноту понимания и доверия читательской публики, которую он лишь туманил и кружил своими идеями, воздержаться от которых было свыше его сил, как не может человек, видя, как его погребают, не попытаться растолковать окружающим, что он все-таки жив…
Гоголю задолго до смерти довелось испытать состояние, которое он так боялся пережить в могиле. Притом его летаргия, по-видимому, не только носила форму телесной болезни, но и глубоко затрагивала весь его духовный состав и протекала наяву, нравственно, литературно, публично, сопровождаемая ропотом общества, к которому взывал он, сознавая всю бесполезность и безумие этих усилий, еще глубже отдалявших его от мира живых. Реакция, последовавшая на его книгу, известна: