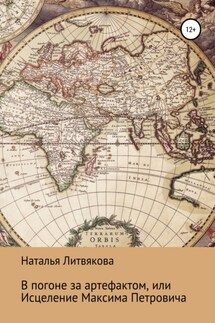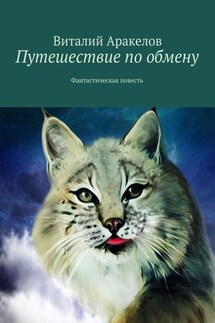1.
Письмо от сестры Поленьки неделю лежало на столе. Максим всё откладывал, боялся: больше года не приходили вести, и вдруг – конверт. Серый, замусоленный, прошедший через много рук, сколько дней оно бродило по свету? Казалось, открой – и узнаешь. Да в том-то и дело, что знать не хотелось.
Маменьки Глафиры Фёдоровны с полгода как не стало. Поля уехала в ссылку за непутёвым мужем-революционером три года назад. Отца, Петра Никодимовича, и вовсе юноша не помнил. Опустел дом Горельских. Замкнулся Максим Петрович в себе, привык к одиночеству, от людей, от жизни стал прятаться. И вдруг – конверт. Была-не была, решился. Вскрыл. Выпало несколько листочков дешёвой бумаги без следов перлюстрации. Да и сам конверт без штемпелей, значит, письмо передали с оказией: кто-то из ссыльных возвращался, возможно, нелегально, из Сибири в столицу. Ах, поморщился Максим, право слово, Поленька, ну зачем всё это теперь, когда и матушки больше нет, и порадоваться некому весточке. И всё-таки он стал читать ровные строчки. Сестра писала, что нынче страшное случилось у них: в конце июня взрыв произошёл, да такой, что думали – конец света пришёл. Стёкла в домах вылетели, на ком из людей и одежда загорелась. Гром, пламя, словно сам Диавол спустился к нам колеснице. После в небе облака появились странные, и шар то ли белый, то ли золотой пролетел над тайгой и упал где-то в тунгусских болотах.
«Только потом ровным счётом не случилось ничего, Максим Петрович. Головы поболели у нас, видно, мигрень. А через месяц слухи пошли. Будто местные, эвенки наши, стали находить вещества странные, то ли шарики, то камушки. И лечебные они. Руна на них, надписи, то есть. И вроде знают, где упало то тело небесное страшное, а скрывают место. Мол, священное. Я вот что подумала, братец: не приехать ли тебе к нам? Для маменьки взять чудес, чтоб сподобилась она выздороветь?» – Максим уронил письмо. Он же вроде сообщал Полине о смерти матери. Что ж сестрица, запамятовала или что? Глянул в окно. За стеклом небо серое, дождь третий день. Тоска. Поеду! – твёрдо решил. Ничего, что письмо июлем 1908 года датировано, а на дворе уж давно девятый. В Петербурге он устал, устал, делать нечего. Какая разница, где сгинуть, в лесах сибирских неведомых или в стенах каменных от печали.
Оживился Максим Петрович. Суетиться стал. Сбегал к товарищу по детским играм, Фёдору Игнатьеву, он вроде как на геологическом учился. Разузнал, что с собой в экспедиции берут. О причинах её соврал зачем-то: мол, к сестре едет, место под гостиницу искать. Разве Федя не слыхал о чуде, что в краю сибирском случилось? Ведь все захотят поехать, собственными глазами глянуть, а у них с Поленькой уже и дело налажено, нумера готовы, и завтраки. Не слышал вроде, пожал плечами студент. И велел Максиму взять с собой соль, чай, спички, сухари, котелок, фонарь, такой специальный – мышь летучую, сапоги охотничьи. И ружьё. Тот испугался сначала, где ж ему столько добра раздобыть, да и орудие? Петька рассмеялся: чудак-человек, не с Петербурга же всё тащить надо, а там купить, в Красноярске или в Иркутске, чай города большие, не деревня!
Максим через три дня багаж собрал. К управляющему домом сходил, ключи от квартиры оставил. Дворнику тоже велел приглядывать, денег дал – если что телеграфировать. И фонарь попросил. Почему-то спокойнее ему было сразу с вещами ехать, мало ли: в незнакомом месте не найдёт ничего, итак сапоги с ружьём в тех краях искать придётся. Билет брать нужно до Иркутска или Красноярска, наставляла сестра. До Красноярска – лучше, ближе. Потом по Енисею или на подводе – до Канска. Там ищи проводников до стойбища тунгусов, что стоят у Южного болота на Тунгуске Подкаменной, или другой реке, Аваркитте. Может статься, что повезёт, и самих тунгусов найдёшь, иногда они посещают город. Спроси тогда, где искать братьев Шанягирей, Чучанчи или Чекарена. Вот им и скажешь истинную причину приезда, для остальных храни тайну. К нам, в Ванавару, уже на обратном пути заедешь, если захочешь. «Я пойму, Максим Петрович, отказ: ни к чему вам со ссыльными якшаться, но матушку спасти надо!».
То ли повезло Максиму, то ли всегда так было, но нашёлся билет до Красноярска. И замелькали пейзажи великой Российской Империи перед глазами. Киров, Пермь, Екатеринбург, Тюмень. В Перми чуть от вагона не отстал, в Тюмени – шляпу унесло. Проезжая Урал, расстроился, не узрел гору Берёзовую, да селение Васильевско-Шайтанское: там пассажиры бывалые рассказывали, столб увидеть можно пограничный. Между Европой и Азией. Его и царь с Жуковским посещали, и Достоевский, а Максим Петрович вот прозевал, эх! Дни летели далее, ночи, с ними станции малые да большие: Иртыш, Омск, Новосибирск. Паровоз гудел, вагончики стучали, душа успокаивалась под мерный звук да глядючи на пейзажи, что мелькали за окошком. Душа излечивалась. Любопытство ли, молодость или желание ли разгадать загадку чуда тунгусского, да отчего Поленька не помнит о телеграмме – помогли Максиму, обрести покой, но не скорбный – радостный.
В Красноярске сошёл совсем другой человек. Не бледный и тоскующий в размышлениях о бренности бытия, о том, что люди – всего лишь следы под опавшими листьями жизни, заметёт их Смерть, не увидишь. Впрочем, мысли о том покинули его насовсем, без отголосков в памяти даже, едва Максим вступил на землю Красноярскую. На перроне проверил не забыл ли чего, фонарь иль котелок – смеялись над ними где-то под Новосибирском, не хуже колёс они стучали, переезжая мост через Обь, да и ладно. Зато своё и искать не нужно. В ожидании места до Канска любовался Максим Петрович Енисеем могучим, парками, домами – а не хуже ведь, чем в столице! А горы какие? А воздух? Словно не вдыхаешь – ключевую, холодную водицу одним глотком выпиваешь, и пить его не напиться!