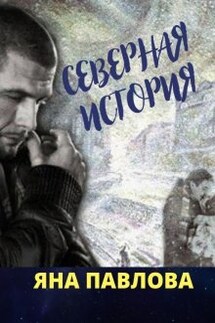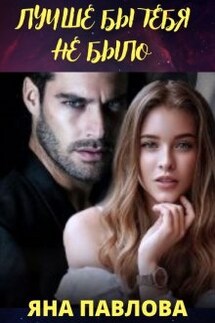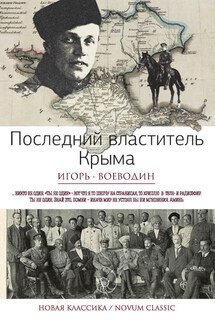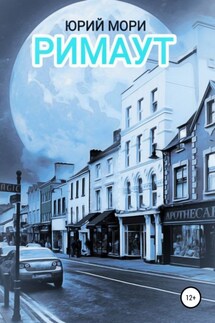– Мамань, – Петя замялся, – мамань, я тебе сказать хочу…
Женщина на постели вздрогнула. Её рот открылся, зашевелились губы, но слов не было слышно.
– Ты, мамань, руки-то соедини, – забеспокоился сын, – а то чего лежишь тут… как распятая. Давай, мамань, вот сюда, на грудь положи.
Глаза больной забегали.
– Знаю, знаю. Ненавидишь меня. Больше не трону.
Она замычала, хотела сказать, что в сердце нет больше места для ненависти. Только любовь.
– И думаешь, что я тебя ненавижу, – Петя присел на край койки. – А я тебя ненавижу.
Он смотрел в окно, отвернувшись от матери. Глядеть на неё, слышать стоны и полувздохи было невыносимо. В душу закралась гадливость.
– Ну, мамань, каково это, а? – сын пошёл в атаку. – Помирать одной? Небось, жалеешь, что меня выгнала? Хотя ты и жалеть-то не умеешь.
Петя сплюнул на пол.
– А знаешь, с чего началось всё? Что я тебя стал ненавидеть. Когда ты Муркиных котят утопила. В ведре, которое у меня в комнате стояло. Помнишь? Я ж на коленях тебя просил, я б нашёл, кому их сунуть, отдал бы, пристроил. Но нет, – Петя ухмыльнулся. – Ты не поверила. Куда мне, тупому, котят пристраивать. И утопила. А я в это ведро ходил тогда. И всё думал потом: а почему в моём ведре? Почему не в Машкином? И решил, что её ты любишь, а меня нет. Но кто ж тебя просил рожать, а, мамань? Зачем родила? А раз не нужен был я тебе, что ж не утопила? Разница невелика – что котёнок, что ребёнок. Бах в воду – и всё.
Петю захватила ярость. Что он говорит, о чём, зачем – всё было не важно. Гнев за погубленную жизнь шёл горлом.
– Теперь вот сама помираешь. Котята-то вспоминаются, нет? Я после того год слышал писки. Сплю, а тут мерещится, что пищат, я бегом на улицу – ищу, ищу. В крапиву по пояс сунусь – вдруг, думаю, спрятались. А потом понимаю: мёртвые ведь уже.
Сколько раз проговаривал он про себя историю с котятами, представлял, как станет бросать в лицо матери упрёки, как доведёт её – которая черствее хлеба – до слёз, как упьётся этими слезами, очистится через них.
Получалось нескладно и жалко. Петя чувствовал это и злился больше.
– Молчишь? Поделом. Наоралась уж за всю жизнь, – он тяжело вздохнул, сглотнул слюну, – ты погоди помирать-то. Не хочу я тебя хоронить.
Встал, смущённый неловкой лаской, вырвавшейся изо рта, и решительно подошёл к окну.
– Не хочу, – мотнул он головой и разозлился, – деньги, что ли, лишние? Ты обожди, я уйду, уеду, а потом помирай.
Нежданный всхлип взорвал больничную палату нежностью. По мужицкому рябому лицу катились слёзы.
– Я, мамань, не хотел так-то говорить тебе про котят. Про Машку. Она дочь твоя, тоже женщина – ясно, что к ней душа лежит. Я и не обижаюсь. Я жизнь прожил. А жизнь – она такая, всё по местам разложит, всё утрясёт. Мамань, – Петя вытер рукавом нос, резко вдохнул воздух и, боясь, что не сможет проговорить медленно, выпалил, – прости меня, мамань.
Комната наполнилась тишиной.
– Мамань? – позвал он. – Я ж люблю тебя. И всегда любил. Простишь, мамань?
– Мамочки нет. Она пошла искать мо-оре, – Леночка встала с лежанки, подошла к окну и, привстав на цыпочки, пропела, – Зима-а-а…
В центре комнаты сидела большая печь – белая в тёмно-серых подпалинах и с пустотой в пасти-зёве. Леночка потрогала бочок кирпичного монолита и вскрикнула:
– Ай! Печка! Ты чего такая холодная? Как у мамочки ручки… Но мамочка-то была русалкой. Ты тоже была русалкой, печка? А у тебя тоже есть печечка?
Печь – единственный свидетель непростой жизни Леночки – вздохнула: две женщины жили здесь. Одна – маленькая, светлая, почти прозрачная. Другая – тоже маленькая и прозрачная, с чистым, но порабощённым сердцем и исколотыми руками.
Приходя домой, мать забивалась в угол, привлекала девочку к себе, укрывала старинным одеялом и дышала ей в лицо певучими, красивыми словами:
– Я буду искать море, пока не найду, рыбка моя… Буду искать его каждый день…
А Леночка всегда отвечала:
– Я буду ждать тебя, мамочка, – и ждала.
Сегодня шёл четвёртый день, как мама ушла. «Мо-оре», – говорила Леночка, просыпаясь от холода. «Тё-о-плое», – шептала, укутываясь в одеяло. «Рыбки много, можно каждый день кушать», – сглатывала слюну. «Мамочка принесёт ракушек, и мы пойдём на море жить вместе!»
– Печка, смотри! – Леночка села перед ней, завернувшись в одеяло, и, заглянув в огромный печной рот, протянула ему руки. – Это вот ракушки. Я знаю, что они не настоящие, но цветные и блестят. Мамочка говорит, на море много ракушек. Я обязательно покажу их тебе, печечка!
Леночка перебирала позвякивающие бутылочки и вспоминала, как мама рассказывала про домового: «Если слышишь шорох в кухне, не бойся: это домовой хозяйничает. Но не ходи на него смотреть. Нельзя». Домовой съел всю их еду и сухарики, которые принесли «добрые люди». Он топал по ночам, не давая спать, и шуршал, шуршал, шуршал…
Леночка всё реже вспоминала бабушку, как пахло у неё пирогами с мясом, ухой и супами, когда жили все вместе, а у мамы были розовые и тёплые руки.
«Рыбка моя, у мамы синие ручки, потому что она скучает по морю. А холодные они, потому что зима на улице, а у мамы рукавичек нет».