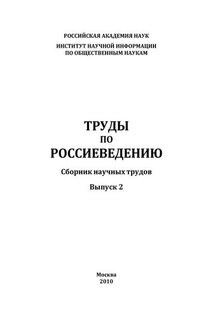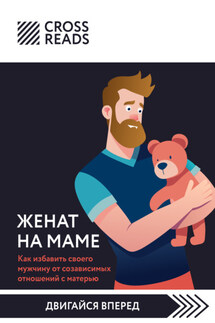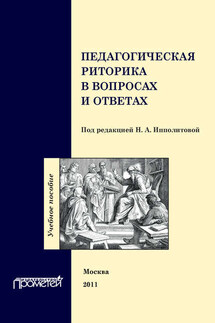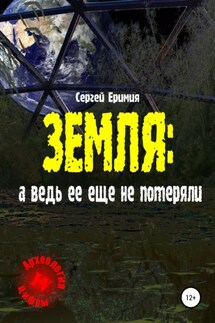Большинство материалов второго выпуска «Трудов по россиеведению» посвящены постсоветской России, точнее – России 2000-х. Нам хотелось рассмотреть это время сразу с нескольких «площадок», синтезировав – в той мере, в какой нам это доступно, – разные исследовательские подходы. Конечно, любые подходы ограничены, однако, дополняя друг друга, они способны создавать эффект резонанса, взаимоусиления, стереоскопического видения объекта.
Кроме того, мы попытались расширить и усложнить объект исследования, поместив настоящий момент в исторический контекст, придав ему темпоральное измерение. Эти интерес к истории, потребность видеть современность в «долгом» ракурсе вовсе не означают поиска «тавтологий» российского бытия, желания объяснить настоящее тем, что уже было, и уж тем более тем, что так было всегда. Конечно, все сложнее. Мы исходим из того, что постсоветская Россия – принципиально новый социоисторический феномен; его непродуктивно описывать в старых категориях. Однако было бы глупо отрицать связь нашего времени с иными русскими эпохами, наличие в нем глубинных определенностей, вырастающих из прошлого. Замкнуться в настоящем, нацелив на него весь арсенал западных теорий, – значит ничего в этом настоящем не понять (мы, конечно, не ставим под сомнение качество этих теорий; речь идет об их объяснительных возможностях для русского материала).
Современность не «вычитывается» из прошлого, но в нем возможен поиск смыслов, способствующих ее пониманию. Это особенно важно для России: здесь новые эпохи строятся на разрывах, на принципиальном отрицании преемственности; и в то же время при становлении и самоутверждении нового происходит компенсаторная активизация традиционных механизмов, связей, опыта. Их действие (и действия над ними, совершаемые в своих интересах «элитами») обессмысливают перемены, демпфируют их, придают им новые ориентиры, «переопределяя» развитие. Историческая призма необходима для познания России. Любые познавательные конструкции не могут абстрагироваться от опыта; их язык следует «заимствовать» не только «извне», но и из «словаря» русской истории и ее исследователей, из устойчивых речевых стереотипов, исторического образно-метафорического ряда. Конечно, мы не предлагаем абсолютизировать этот подход и вовсе не склонны впадать в «самобытничество», производя новые мифы по поводу самих себя. Речь идет о возможном методе исследования, способе саморефлексии, одном из аналитических подходов – не более того.
И наконец, нам хотелось выделить актуальные, «растиражированные» темы, создающие образ («для себя» и «для других») новой России. Одна из таких тем – модернизация, буквально ставшая «слоганом» 2010 г. Мы пытались понять, что скрывается за этим «социальным ярлыком», почему он оказался столь востребованным именно сейчас, на явном модернизационном «спаде», в фазе «демодернизации». Наш интерес не имеет ажиотажно-сиюминутного, идеологизированного характера. Для российской культуры это чрезвычайно важная тема, звучащая и как исторический анекдот – модернизация в России всегда не ко времени и не по силам, но бывают моменты, когда даже разговоры о ней выглядят как издевательство или слабоумие, – и как историческая трагедия: за модернизацию всегда платили непомерную цену, она никогда не приводила к ожидаемым результатам, натыкаясь на новые и заводя в старые исторические тупики. Мы – особенно в ХХ в. – выглядим как страна безнадежная, не поддающаяся такой модернизации, которая работала бы на социальное благополучие и мир. Поэтому для нас актуален вопрос: от какой модернизации нам не следует отказываться? А при ответе на него важен ракурс соотнесения России с миром, его ценностями, вызовами, ответами на изменения.
А вот другой вопрос, постоянно нас «догоняющий» и застающий врасплох: зачем нам прошлое и чем обусловлен выбор «подходящих» (каждой новой) современности образов прошлого? Актуальный в течение всего ХХ в., он стал просто вопросом вопросов дня сегодняшнего. Наше настоящее, отличающееся наследственно-небрежным отношением к историческому наследию (точнее, пренебрежением им), при этом обложено прошлым, как ватой, предохраняющей от ударов и повреждений. Почти все живут с оставшейся от прошлого «матчасти» (месторождений, заводов–газет–пароходов, родства и связей или учреждений, недвижимости, земли, или квартир, дачных участков и т.п.), а также пользуются прошлым как символической защитой.
Прошлое-символ нужно для того, чтобы убежать от настоящего: постоянно напоминать себе, что мы способны не только «балдеть» и «хаметь» от «хорошей» жизни, выкручиваться и «сатанеть» от жизни «для всех», но и строить, конструировать, запускать, сочинять и освобождать, завоевывать, побеждать и быть в мировом «авторитете». Но это не все. С помощью прошлого мы защищаемся и от него самого, от времени вообще, подпирая «прочными» историческими конструкциями свои вечные «тупики», «колеи», «застойные» паузы, свои нежелание и неспособность цивилизованно и ответственно отвечать на вызовы новых эпох, «глушим» свой страх перемен. За счет прошлого, путем его препарирования мы пытаемся – во всяком случае таков опыт ХХ – начала XXI в. – удержаться в одном времени, в какой-то придуманной нами вневременно́й «дыре». Для этого наследие разоряем, историю дробим, мажем в черно-белые тона; хорошо залакированным, «бесспорным», достойно-героическим прошлым прикрываем то, которое требует к ответу, напоминает об утраченных возможностях, пугает разнообразием, сложностью и возможностью разночтений.