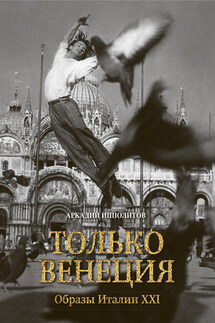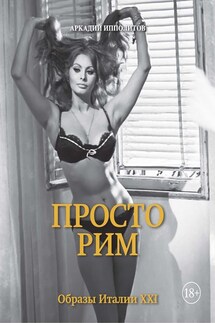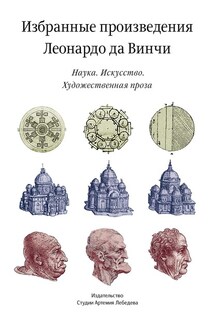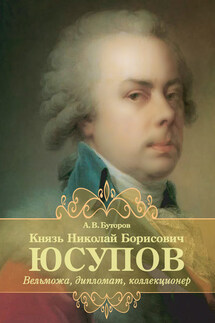Кинотеатр «Знание». – Юноши в лодке. – Про реальность «Плотов» и «Неисцелимых». – Карпаччо и affluence. – «Невидимые города» и «Имена стран». – Канале Гранде. – Кампо Санто Стефано. – Дворец Сальвиати. – Роман «Сомнамбулы». – Самая прекрасная в мире юбка. – Встреча с юношами в лодке. – Two Wheeler, звук обманчивый. – Подлинный звук. – Удар в лоб и карта Якопо Барбари
Песенка. Какая-то песенка, пропетая какой-то эстрадной певичкой на каких-то ступенях. Чего это были ступени? Собора Сан Марко? Какого-то мостика? Ступени Сан Джорджо Маджоре? Хоть убей, не помню, помню, что певица была рыжа, что она по ступеням, поя-заливаяся, спускалась и что – кажется, опять же кажется – она спускалась в какую-то открывающуюся панораму, и в панораме были и ширь, и воздух, и вздох. Где такое в Венеции? Я ничего не помню, ну ничегошеньки, – впору завыть, как старуха-мать в фильме Бергмана «Земляничная поляна», живой труп над ворохом старых фотографий: это я вспоминаю мою первую встречу с Венецией. Состоялась она 31 декабря 1970 года, когда мне было двенадцать лет, – точную дату я вычислил с помощью свидетелей. Встреча произошла в «Знании», старом ленинградском кинотеатре на Невском проспекте в доме № 72, первом звуковом в России, теперь переделанном в «Кристалл Палас». Тогда, 31 декабря 1970 года, в «Знании» крутился документальный – кажется, немецкий – фильм про Венецию, и я, в первый раз приведённый на него мамой, потом бегал смотреть его раз – не помню сколько точно – пять, шесть, семь, девять? – по-моему, ни один другой фильм я не пересмотрел столько раз, разве что Le charme discret de la bourgeoisie. Не помню ни названия, ни режиссёра, но помню холодный и практически пустой зал и моё безграничное счастье, когда на экране появлялось… что появлялось, я тоже не очень хорошо помню: певичка, которая вроде, как мне теперь кажется, Моникой Витти была, стеклодувы, го́ндолы, конечно же, гондольеры с сине-белым полосатым верхом, дворец Дожей и площадь Сан Марко – обычный чепуховый набор. Мне кажется, что затем в моей жизни я где-то на этот фильм наткнулся, но он лишь мелькнул и показался мне совершенно бездарным. Я, снова его повстречав, не обратил внимания ни на режиссёра, ни на страну, потому что он был мне совсем не нужен в жизни, только детское воспоминание портил. Как и полагается, «в мире новом друг друга они не узнали», но теперь, как раз когда я решился написать эту книгу, я начал фильм специально разыскивать, в розысках никак не преуспев, потому что, честно говоря, слишком настырен и не был – зачем тьмой низких истин подменять нас возвышающий обман? Пусть останется счастье в холоде декабрьского «Знания», ведь если я теперь снова увижу эти кадры, стеклодувов и гондольеров и всё про фильм узнаю, то моё знание раскавычится, а это будет совсем другая история. Пусть также рыжая певичка останется Моникой Витти, похожей, правда, не на антониониевскую Монику из «Ночи», а на Монику из «Не промахнись, Ассунта!».
Русский павильон на Венецианской биеннале
Ленинград, холод, декабрь – моя Венеция родилась там и так. Конечно же, о Венеции я знал и раньше – кто ж про неё не знает, знал, что там дома в воду понатыканы и очень красиво, но благодаря фильму, воспоминания о котором ненадежны, как свидетельства детей, Венеция во мне приобрела очертания, превратилась в образ. До того это была чистая абстракция – а как же могло быть ещё в декабре, холоде и Ленинграде? Тогда и альбомов-то про Венецию никаких не было, вряд ли я даже фотографии города видел: это теперь дворец Дожей рекламирует кафельную плитку на каждом шагу. В образ, во мне сформировавшийся, я влюбился страстно, и, если признаться честно, в мою соседку по парте, я был влюблен гораздо меньше, хотя её и обожал так пылко, что даже о самоубийстве подумывал, как многие в тринадцать лет.
Было ещё одно обстоятельство, для моей Венеции очень важное. Открытка с фрагментом из «Истории святой Урсулы» Карпаччо: вид в просвет колонн лоджии из «Прибытия английских послов» с водой, домиками, церковкой и чёрной лодочкой с двумя юношами. Юноши повёрнуты спиной к зрителю, и их кудрявые белокурые волосы столь пышны, что кокетливые чёрные береты, довольно большие, с трудом натянуты на шевелюры – кудрей много, и головы кажутся перевернутыми горшками с какой-то благоуханной и буйной растительностью, кустами лаванды. Один юноша сидит, непринуждённо облокотившись на лодочную перекладину, нам видна только его половина, а второй показан во весь рост, он лодкой управляет стоя, с помощью длинного весла, как и положено в го́ндоле – вроде бы слово «го́ндола» я уже знал, но говорил, конечно, гондо́ла, по-русски. Красивое слово и с русским ударением немного неприличное, мне всегда так в детстве казалось.