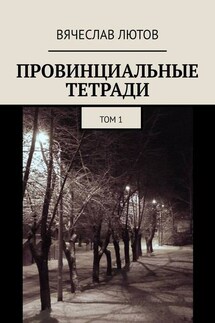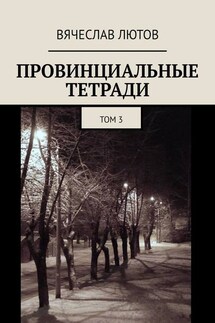Когда-то Ф.М Достоевский в письме к Ап. Майкову одним из первых русских писателей признался в традиционной для литературы подмене: объясняя истоки своих героев, он упомянул Чаадаева, но совершенно особым и примечательным образом: «Ведь у меня не Чаадаев, я только в роман беру этот тип». Тип человека, род человека, «порода» (если по-лермонтовски) – это не стареет, это кочует из века в век. Это тщательно сокрыто за занавесью биографических фактов, внешних впечатлений и оценок; оно не может быть исследовано, а лишь набросано штрихами.
Я, возможно, и сам не заметил, как книга о Жуковском вдруг превратилась в книгу о человеке «типа Жуковского». Да и самой книги-то не предполагалось – просто заметки, записи в дневник, которые вдруг стали расти, растягиваться, иногда даже казались нескончаемыми, как мучения Агасфера, иногда чувствовалась натянутость и, может быть, даже несправедливость по отношению к Жуковскому – так что будет повод упрекнуть автора. В общем, писалось «по-розановски» – в сумерках, на задворках…
Снова спрячусь за авторитет Достоевского: «Человек есть тайна. Ее нужно разгадать». Вот и разгадываю – только вместо ответов, как это традиционно принято, возникают лишь новые вопросы, вместо утверждений – лишь предположения и догадки.
Знаете, это даже здорово – по меньшей мере, не находишься, не ощущаешь себя на положении судьи-палача, который ради исследовательской точки академично рубит живую голову. Утешением же для такого сложившегося порядка вещей будет прекрасная мысль Акутагавы: «Счастье классиков в том, что они мертвы…»
Жуковского ни русская философия, ни литературоведение особо не жаловали своим вниманием – слишком заслонен он, затенен гениями его эпохи – Пушкиным, Лермонтовым, Гоголем. С другой стороны, в Жуковском как бы не было стержня, проблемы, биографического романтизма, наконец; его «необыкновенно-обыкновенная» жизнь зрителя не прельщала, а исследователя не возбуждала на поиск. «Небесной душой» называл Жуковского Пушкин; ангелов же, обычно, не разбирают…
Но дань уважения им все же приносят.
В наше безденежное и по сути бескнижное время я был счастлив тем, что в свою деревенскую тишину и глухомань мне удалось «заполучить» трех биографов – три книги о жизни Жуковского – Бориса Зайцева, Майи Бессараб и Виктора Афанасьева. С ними и жил весь этот год, выстраивая свои смутные заметки, для чего и пишу «первую и вместе с тем последнюю вещь в книге» – предисловие…
апрель, 1997 (145 лет со дня смерти В. А. Жуковского)
1852, АПРЕЛЬ. НАКАНУНЕ. Разговор с о. Иоанном. «Агасфер». «Царскосельский лебедь»
* * *
…В большом доме Жуковского в Бадене несколько окон плотно занавешены и комната тиха и сумрачна: «лекарство для глаз» – отсутствие света. Доктор Гугерт ему рекомендовал темные комнаты, пока не сойдет воспаление. Один глаз уже слеп, другой еще видит, еще держится – на честном слове. Выходить нельзя: резкий свет вызывает резкую боль. Так позднее произойдет с неприкаянным Фридрихом Ницше, чьи глаза убивал прекрасно-ослепительный белый снег.
Василий Андреевич готовился к тому, что однажды утром он не увидит самого утра, и даже придумал себе машинку для слепого письма – «я человек изобретательный» – картонку с прорезями для строк.
В этой комнате, в полусумраке, в начале марта 1852 года, камердинер Жуковского Василий читал поэту выписку из журнала «Московитянин» – о смерти Гоголя. «В чем заключались его страдания, никто не знает… уклонялся от пищи… был уже слаб и почти шатался… сжег… по ошибке… закричал: оставьте меня! не мучьте меня!»
Жуковскому сначала было страшно – и слушать, и думать об этом; но потом он впал словно в оцепенение: просидел несколько часов кряду без движения, во тьме, потом прилег на диван – и уже больше не вставал /1.392 – указан источник из списка и номер страницы/.
Его как будто нужно было «свалить», чтобы он наконец понял, почувствовал: вот – смерть, теперь уже за ним…
* * *
7 апреля приехал прот. Иоанн Базаров. Жуковский был очень плох, но причащаться пока отказывался: само таинство, казалось, становится тем предвестником смерти, после которого уже нет никакой надежды – вместо того, чтобы нести благодарное успокоение и светлое умиротворение. Поэтому откладывал, терпел (как всегда в своей жизни), придумывал всевозможные отговорки, оправдания:
– Вы видите, в каком я положении… совсем разбитый. В голове не клеится ни одна мысль. Как же таким явиться перед Ним?
– А если бы сам Господь захотел прийти к вам? Разве отвечали бы Ему, что вас нет дома? /3.141/
Действительно, разве бы Жуковский отказал, отговорился, оттолкнул?
После причащения Василий Андреевич «успокоился внутренне». Надлежало прощаться.