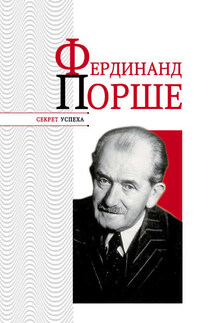На пожелтевшей фотографии с обломанными уголками отец в красноармейском шлеме и гимнастерке, подпоясанный звездастым солдатским ремнем. Облокотился на легкую деревянную тумбочку: невысокий, коренастый, простое грубоватое лицо, дороже которого нет и не будут. Нос-шишка к верху, в глазах упрямая самонадеянность, маленькие губы крепко сжаты… Сохранились и другие фотографии, где он с лейтенантом Пилипенко, бывшим кузнецом Скориком, другими сельчанами, но эта ближе всех, мы будто остаемся наедине, грусть моя глубже, из невозможного и невозвратного возникают обрывочные картины, обступающие бегущими тенями, рвут мою душу не истершиеся из памяти голоса… Скорик живее всех, Скорик всегда рядом, а лейтенанта Пилипенко помню плохо. Вернее, мне кажется, что я его все же помню. Хотя и безлико, как нечто недоступное в своей офицерской форме, важное и властное над всеми, даже над силачом Скориком. «Разобьем! Победа будет за нами! К осени ждите!» – и всё. Какой-то не от земли словно. А рядом с кузнецом – вовсе хлипковат, но ему все верят.
Площадь – ступить некуда. Пора сенокосная – подростки примчались прямо на конных грабельках с блестящими спицами. Сенокосилка с задранной вверх косой, набегая в двуконной тяге на площадь, гудит на холостом ходу шестеренками передачи. На бричке с дробинами, высунув босые грязные ноги через боковые решетки, притихли девахи-копнильщицы. За красным столом сам председатель Пимен Авдеевич Углыбов, два бригадира, дед Треух – участник прежней Германской войны, получивший увечье в Гражданскую: «С богом, детушки! Не опозорьтесь тамачки… Оно, с давних времен рогатый стервец роет и роет под нашу границу, вот роги ему и посбивайте».
Представить деда в седле или у пулемета не получается, толкаю под бок Витьку Свищева: «Прям, атаман!»
– У него два Георгия – атаман, тебе!
– Царские награды не в счет, – нахожусь с ответом, испытывая странную неловкость, потому как давно уяснил из отдельных реплик старших, предназначенных не для моих ушей, что и мой дед Василий, вроде бы как сложил безвинную головушку вовсе не за «красну власть». Не знаю почему, но говорить вслух об этом не принято, как и задавать вопросы, расспрашивать, что может закончиться лишь подзатыльником и непонятными упреками мамы…
Многое уж не вспомнить, но чаще всего в моей состарившейся памяти всплывает ссохшееся, морщинистое лицо бабушки – я называл ее мамой Тасьей и больше никак. Она была всюду, и долгое время приходила ко мне по ночам после того, как умерла, и мы ее похоронили… Строгая для других, на меня она почти не кричала. Зная, что любит меня едва ли не больше всех на свете, очень боялся ее.
…Над площадью трепещет жаворонок, льет на странно захолодавшую земь свои звонкие трели. Бегут по чистому небу редкие белые облака. Плывет дымчатое солнышко. Мужики неровно выстраиваются, неровно бредут колонной за лейтенантом Пилипенко на столбовую дорогу, а отца… нигде нет. Не помню его в той суровой толпе, не вижу…
Наша память избирательна, ей приказать невозможно, что сохранила, то и будет время от времени возвращать яркими картинами, похожими на вспышки ослепляющих молний. Но и этого хватит живому – что-то все, же осталось, сжимает сердчишко,… хотя, естественно, только твое.
Усела пыль, и уж новое лето, и снова уходят на столбовую дорогу в направлении Славгорода, неровные молчаливые шеренги деревенских мужиков и подросших за год парней бить супостата, и… снова отца среди них нет.
Так где же ты у меня, сумевший побороть самого Скорика?
– А война еще не кончилась? – спрашиваю Митю.
Митя молчит, совсем перестал разговаривать, лежит на высокой постели – кожа да кости, – и, кажется, давно не дышит. Я боюсь его такого и снова поспешно спрашиваю:
– Мить, а когда она кончится, скоро?
В комнатке две кровати. Одна – Митина, на другой спим я и мама, Савка спит на печи. Мама – доярка на ферме, где отец до войны был скотником и бригадиром, поднимается до света, я почти никогда не слышу. Зато сплю потом как король. Осилив подоконник, незаметно переползая с половицы на половицу, на кровать привычно взбирается яркое солнышко. Дождавшись его в немыслимом напряжении, заранее зная, что будет, испытав желанное ослепление, взрывающееся в глазах, полежав мирно и тихо, снова начинаю приставать к Мите.
– Счастливый ты, Пашка, – говорит иногда Митя писклявым голосом, похожим на стариковский, – тебе долго жить… Папку дождешься с войны…
Становится скучно.
– Па-а-аш-ка-а! Па-а-ашш! – базонит во всю моченьку за окном Витька. – Айда на ферму, мамка сливок обещалась дать нам по кружке, наказывала прибежать. Айда скорее, засоня, пока фляги не оттартали на маслобойку.
Мама рассказывала, раньше фляги отвозил сам отец, хоть был бригадиром, заезжая по пути на маслозавод в контору с отчетом. Теперь возит Витькин отец-фуражир, а Витькина мать – сепараторщица, за время дойки с двумя подсобницами-девчатами молоко перегоняет на сепараторе в сливки. Этого я тоже не помню, но Митя часто вспоминает, не скрывая зависти, что отец нередко брал меня в те поездки, чего я, конечно, не помню, и говорит с придыхом: