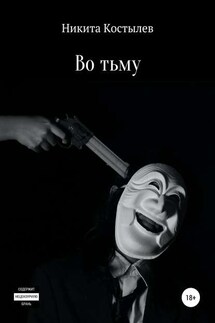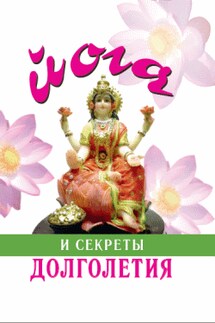На станцию прибыли глубокой ночью. До утра вагон простоял в тупике. Сквозь вспугнутый, настороженный сон до Павла доносились звуки незатихающего движения на главных путях. Попыхивая, взад-вперед неутомимо сновал юркий маневровый паровозик, в темноте раздавались невнятные возгласы, резкие свистки и лязганье буферов. Станция, очевидно, принимала и пропускала немалый грузопоток.
Словно из далекого забытья долетел до Павла и скрежет отодвигаемой тяжелой двери.
– Выходи-и!
Высыпав из вагона шумной гурьбой, люди зябко ежились спросонья на колком утреннем ветерке, суетливо охлопывали себя по карманам, торопились извлечь на свет кисеты с махоркой. Глотнув наспех две-три короткие нетерпеливые затяжки, становились в строй.
Отыскав глазами Николая Махтурова, Павел приветственно кивнул ему головой, привычно встал рядом. Следом, застегивая на ходу шинели, подошли Станислав Шведов и Андрей Кусков.
– Кажись, приехали, братва? А? – преувеличенно бодро поинтересовался Шведов, возбужденно вертя головой и осматриваясь вокруг с той, в данном случае деланой и неестественной, душевной приподнятостью, которая впору лишь при свидании с давно покинутым отчим краем.
Едва ли при этом он рассчитывал всерьез заинтересовать кого-то своим сообщением, скорее всего сказал без всякого умысла, из товарищеского участия к Махтурову и Колычеву, чтобы высказать свое доброе к ним расположение или завязать разговор. Но вышло вопреки намерениям.
Махтуров, правда, холодно покосился в его сторону, но промолчал, хотя относился нетерпимо ко всякого рода проявлениям фальши, легковесности и позерства, и ему стоило немало усилий переносить их без возражений. А пренебрежительно-беспечный, мало озабоченный постигшей его участью Шведов, который, казалось, не только не тяготился своей виной, как другие, не только не омрачался ею и не раскаивался, но, напротив, всячески бравировал и выставлял напоказ свое разудалое, бесшабашно-наплевательское безразличие ко всему, что касалось ближайшего будущего, вообще вызывал у него неприязненное чувство.
– Скажи уж лучше – докатились! – с ироничной усмешкой отозвался Павел. В отличие от Махтурова у него не было столь категоричной уверенности в том, что выпячиваемое молодечество, подчеркнутое небрежение своей дальнейшей судьбой – не мнимая, а действительная сущность характера Шведова, не шутовская маска, надетая им в расчете на броское внешнее впечатление, а истинное его лицо. Павел знал по себе, как придавливает, обезволивает человека на первых порах тюремная камера, как, попав в ее затхлую, мертвящую атмосферу, многие надолго перестают быть самими собой и либо отгораживаются от окружающих непроницаемой стеной замкнутости, либо рядятся в несвойственные защитные одежды из наносной грубости, показного удальства и разухабистости. Так или иначе приноравливаются к любому обличью, лишь бы не обнаружить, уберечь от жестокого и унизительного попрания свое настоящее, потайное. И потому не спешил выносить окончательное суждение о Шведове.
– А хотя бы и так! – беззаботно согласился Шведов. – Что с того? Все равно лучше, чем в тюремной камере клопов кормить да вонь парашную нюхать. Андрюха, подтверди!
Кусков с шутовской готовностью кивнул головой.
– Только и всего? Не маловато ли?
– Скучный ты человек, Колычев, занудный. А все знаешь почему? Не умеешь ты жизни радоваться, не ценишь. Честное слово. В армию ведь снова идем, на волю! Чего же тебе еще надо? Знаешь, как Горький говорил: жизнь – она красавица, ее любить надо. Вся штука в том и состоит, чтобы уметь ежедневно находить что-нибудь для радости и радоваться, радоваться! Понял, чудак, чему умные люди учат?
– Ты бы Горького-то хоть постеснялся трогать. Мужик он, конечно, авторитетный, зря не скажет, тут спору нет. Только не слишком ли вольно, молодой человек, вы его толкуете? Может, и был звон, да там ли он?
– А ты не сомневайся! Я ведь до танкового училища год в университете на филологическом проучился.
– Это дела не меняет. Все равно. Думаю, если что подобное Горький и утверждал, то, вероятно, прежде всего имел в виду того человека, о котором писал с большой буквы, а не такого ловца мимолетной радости, как ты. Из тебя пока что не только человека путного, но, как видно, и танкиста сколько-нибудь стоящего не получилось.
– Ну, насчет танкиста – это ты, положим, зря: не хуже других я в бой ходил. А что касается всего остального прочего, то это мы тоже – будем поглядеть, кто больше человек!
– Отставить разговорчики!
Начальник конвоя, немолодой младший лейтенант в белом овчинном полушубке и с автоматом на груди, дважды просеменил вдоль ломаной шеренги, просчитывая людей, и, убедившись, что все в полном порядке, подал отрывистую команду:
– Справа по четыре! Вперед – марш!
Колонна тронулась. «А он с замочком, да, пожалуй, не с простым, этот бахвалистый лейтенант!» – заключил про себя Павел, возвращаясь мыслями к разговору со Шведовым.
Обогнув пристанционный поселок окраиной, колонна, сопровождаемая конвоем, вытянулась на лесной проселок, уводивший к военным лагерям, где наряду с другими частями и специальными подразделениями формировался штрафной батальон, на пополнение которого и направлялась очередная партия досрочно освобожденных из мест заключения.