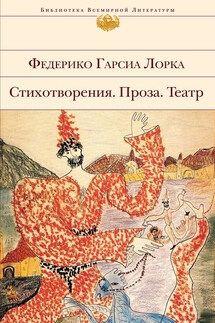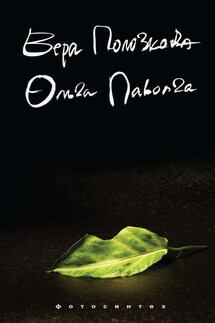А есть ещё такая версия, —
что вымирает в нас поэзия.
Глеб Горбовский
А есть ещё такая версия…
Почему кто-то решил, что у поэтических произведений не может быть авторского предисловия? У прозаических произведений может, а у этих нет. Почему кто-то решил, что поэт не должен сам вводить читателя в свои сочинения? Критики, литературоведы и примкнувшие к ним для компании писатели должны, а поэты нет. Возможно, что поэты спят и видят себя не какими-то там игрушечными, потешными, соломенными, надувными, плюшевыми, а только самыми что ни на есть истинными, «настоящими», как завещал им предусмотрительно и заботливо великий философ Сократ в платоновском диалоге «Федон» ещё аж в IV веке до н. э.: «Поэт – если только он хочет быть настоящим поэтом – должен творить мифы, а не рассуждения». Так вот в чём, оказывается, коленкор. Виноваты Сократ с Платоном, ориентированные своими вкусами на образцовое содержание поэм бессмертного и потому наполовину мифологического поэта Гомера. «Настоящие» поэты должны заниматься мифотворчеством, а не писать предисловия, которые по своей сути являются самыми что ни на есть рассуждениями. Надо скрывать свои истинные мысли – тогда ты только лишь получаешь возможность стать поэтом, причём «настоящим» по природе. Такова, видимо, удобная логика духовных потомков философов.
Почему кто-то сказал, что каждый, кто читает стихи, может увидеть или отыскать в них что-то исключительно своё собственное и, более того, даже ту скрытую, завуалированную мысль, которую сам автор ни единым словом и не помышлял запрятывать? При этом все поэты, как один, будто сговорившись, против этого тезиса и не возражают как бы, а зачем? Пиит написал, пиит творение своё всем показал, и потянулся следом за усердно пыхтящим паровозом длинный товарный состав, гружённый переработанными отвалами критики: он хотел передать это, он выражал то, в этом скрыт такой-то смысл, в том – другой, иной, более глубокий, нежели кажется при беглом чтении на первый взгляд. Всегда приятно, когда тебя считают умнее, мудрёнее, глубже, чем ты есть на самом деле в этой поверхностной жизни, пусть на второй, третий или даже четвёртый взгляд по заказу. А почему бы и самому себя после этого таковым, то есть особенным, не посчитать? Ну не признавать же собственноручно и во всеуслышание на самом деле:
Что сам я глупый, глупый поэт[1].
Может быть, и правда, со стороны, через дорогу, с противоположного конца, по-есенински[2], виднее, какой всё же ты, поэт, большой, гениальный и эпохальный? Все вокруг вертятся, толкаются, взмахивают пухленькими ручками, тают от восхищения и делают поэту восторг, прямо-таки гоголевская живая картинка из «Ревизора», когда ахающий Бобчинский делится с тёзкой Добчинским впечатлением о своей встрече с Хлестаковым: «Вот это, Петр Иванович, человек-то! Вот оно, что значит человек! В жисть не был в присутствии такой важной персоны, чуть не умер со страху». Поэтому и не стоит поэту ради подобного к себе отношения вылезать из глубокой норы рифмующего работника со своими разумными разъяснениями, разочаровывать, так сказать, одержимых археологов, трудолюбивых копателей его творчества.
Однако в реальности всё не совсем так, скорее всё же совсем не так, и уж точно всё совсем наоборот, поскольку стихотворение по своей сути – это обычный прозрачный аквариум, куда поэт запускает понравившихся ему самому разноцветных рыбок разных видов. Любоваться, следовательно, можно только тем, что в этом резервуаре плавает, и не чем иным. Мифы, как известно из школьной программы зоологии, к животному миру не принадлежат и в наполненных чистой водой аквариумах не водятся никак и никогда сами по себе и даже с помощью поэтов. Рыбы – это образы, а не мифология. Стихотворение ценно именно образами, передающими мысль, а не собственными придумками по поводу отсутствующей в аквариуме живности. Поэт может и должен сам говорить простыми словами о своей поэзии, вернее, о своих сокровенных чувствах, переданных в виде конкретных образов. Ему нечего бояться, если он, конечно, тот самый «настоящий поэт». Такой никогда не будет скрываться за пресловутыми фразами напускателей всяких густых туманов и взбаламученной мути: «Я так вижу» или «Я так чувствую». Лукавство? Да, несомненно. Ибо всегда и у всего, и даже в душе, и даже у художника, есть исток самовыражения, и он его, этот исток, однозначно культивирует, рационально, сознательно ощущает в себе. «Ex nihilo nihil fit»[3] – любил говаривать в свою седую бытность старина Парменид. С тех пор так ничего в этом неоспоримом его утверждении и не поменялось, пусть ты и отправил в воздух замысловатые пузыри или «в небеса запустил ананасом»[4]. Искусство осталось искусством, а не превратилось в словоблудие. Человек – да, изменился, стал словоблудом искусства, а за ним, видимо, подался и доверчивый к своему натуралистическому времени жалкий до попрошайничества художник. Он что, не удачная имитация человека разве?