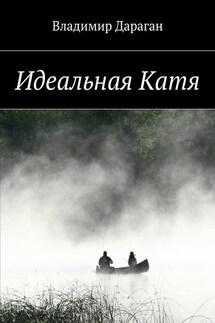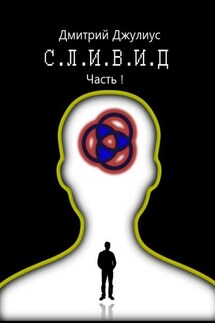«Можно ли жить абсурдом, или эта логика требует смерти?». Раньше я видел в этих словах лишь красивую цитату, которую можно было бросить в копилку памяти, чтобы при удобном случае извлечь и блеснуть начитанностью где-нибудь на музейной выставке или в суде. Теперь я понял, что имел в виду Камю.
Я закрываю глаза и откидываюсь на сиреневую спинку кресла, избавляясь от визуального потока информации, но продолжая видеть кафе в мельчайших деталях. Нескольких мгновений хватает, чтобы это место навсегда отпечаталось в моей памяти, как картина художника-гиперреалиста: тридцать два матовых плафона, в двадцати одном из которых лампочки теплого света, в девяти – холодного, в трех – мигают, в двух – выкручены. Двадцать три белых столика, семнадцать из них – заняты, два – забронированы, один – не убран, один – сейчас займет дама в зеленом. Всего в мое поле зрения попало тридцать семь посетителей, и я могу до последнего заусенца описать любого из них. Двенадцать фотографий на стенах – это двенадцать черно-белых окон, в каждое из которых я продолжаю заглядывать, точно зная количество парящих над Тауэрским мостом птиц, или марки автомобилей в ночной пробке на Фламинго-роуд. Я помню каждую шероховатость пола, каждую трещину в асфальте тротуара, царапину на приборной панели в машине, крупицу облупленной краски в уборной на заправке… Я помню, как ехал сюда, зависнув на час в невообразимой пробке, от моста до Ривер-стрит, и перебирая в уме события последних дней, которые мало чем отличаются от эпилога к невероятно реалистичному ночному кошмару.
Но при этом я не могу вспомнить, когда последний раз ложился спать.
Еще я не могу вспомнить, чтобы Мэри была когда-то так же прекрасна, как сейчас. То, что произошло между нами, рано или поздно должно было произойти. Кровь брызжет во все стороны, зал замирает. Она бледнеет, хватается за шею и падает на пол, после чего стиляга за крайним столиком машинально вскакивает. Через мгновенье в его руке уже поблескивает пистолет. Не похоже, чтобы этот парень был в таком же шоке, как остальные. Видимо, у него голове сработало нечто, что принято называть внутренним чутьем, благодаря которому он заранее знал, чем все кончится. Или может это обычный коп, а меня выдало что-то вроде непроизвольных жестов или микровыражений лица, которые позволяют с точностью определить, что человек собрался пырнуть кого-то вилкой. Не знаю. И не уверен, что хочу знать, находясь теперь под дулом пистолета.
Забавно вспоминать, как все начиналось. Генри сидел в кресле посреди бумажного бедлама с таким видом, будто в самом деле совершает прорыв в медицине. В действительности же это был лишь эксперимент, причем с самыми скудными исходными данными, которые только можно вообразить.
– Делаем несколько надрезов здесь и здесь, – он сгребает в сторону бумаги и кладет снимок передо мной, шариковая ручка в его руке превращается в указку, – после этого вживляем около ста… «микроигл», которые будут взаимодействовать с нейронами. И только потом перейдем к глазам.
Я хоть и не слеп, но вижу лишь черно-синее пятно, так как ничего в этом не смыслю. Похоже, он понимает это, потому что после моего взгляда кладет ручку обратно в карман.
– Неужели все так плохо? – Спрашиваю и проматываю в уме все, что известно об этой «новейшей разработке». Со слов Генри она безвредна и эффективна, и у меня нет поводов не доверять ему. Но сама мысль о сотне микроигл в голове каким-то странным подсознательным образом настораживает. Хоть это и не является чем-то сверхъестественным, если подумать.
Генри открывает шухляду и начинает перебирать бумаги. Создается впечатление, будто он ищет аргументы, подтверждающие его слова насчет разработки, в которой он и сам до конца не разобрался. Или это страх заставляет меня так думать – нелогичный, но вполне естественный страх перед неизвестностью, из-за которого я начинаю высматривать в старом приятеле нотки подвоха. Он достает синюю папку и откидывается на спинку, как если бы нашел, что искал:
– В противном случае, зрение будет постоянно падать.
– Насколько лучше я стану видеть? – Пытаюсь сфокусироваться на этикетках склянок у него за спиной, и понимаю, как это бесполезно при моем уровне близорукости.
– На все сто. Или почти. – Генри открывает папку, достает калькулятор и приступает к отчету. Похоже, никаких аргументов в ней не содержится, – Как бы там ни было, про очки сможешь забыть.
Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но откуда у Генри такая уверенность, что это сработает?
– Разве в моем случае такое возможно? – Начинаю жалеть, что не доучился на медицинском хотя бы до второго курса. Для общего развития.
– С этой разработкой – да. – Он отодвигает все бумаги на второй план, достает таблетку и наливает себе стакан воды. – Есть, конечно, и другие варианты, но при той болезни, что у тебя, ни один из них не способен вернуть всей остроты зрения.
Генри глотает таблетку и у меня создается впечатление, что это какой-то психостимулятор. Возможно, он стал бы точной копией Хантера Томпсона, будь у него очки вроде моих. Но иллюзия быстро рассеивается, когда вспоминаю, что он страдает от приступов мигрени.