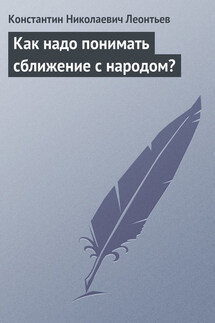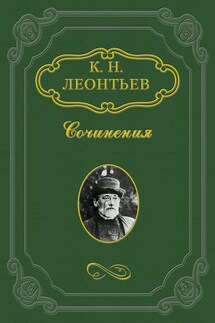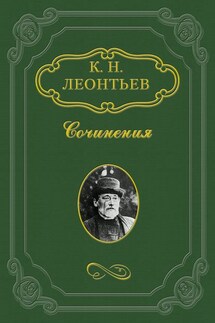Я прочел «Накануне» с увлечением, но оно неприятно потрясло меня… В деревне нет возможности иметь разом под рукою все журналы и сообразить все критические отзывы. Я прочел статью г. Дарагана, и она не удовлетворила меня: я порадовался многому встреченному в ней, но еще приятнее был поражен заметкой и забавными стихами «Искры», направленными против моральной точки зрения г. Дарагана. Не знаю, отчего г. Дараган не мог резко отделить нравственный вопрос от эстетического. Хотя эти две стороны обыкновенно бывают связаны органически и в жизни, и в поэзии, но разделение их при разборе нетрудно, особенно если как в «Накануне» бессознательное принесено в жертву сознательному.
Понятно, что теперь, при сильно изменившемся духе общества, при открытом стремлении к прогрессу, нравственно-исторические вопросы везде пролагают себе путь, везде слышен голос искренней любви к пользе, поэзия говорит о высокой деятельности, и критика принимает нередко более исторический, чем художественный характер. Даже в тех критических статьях, где видно глубокое понимание изящного и слышна горячая любовь к поэтическому, даже и в них на первом плане является современно или несовременно русское. Для примера я вспомню о разборе «Дворянского гнезда» г. Анненковым и о разборе «Обломова» г. Ахшарумовым. Подобные статьи, чуждые грубой догматизации, верные, горячие не могут не возбуждать сочувствия. Но рядом с грациозностью мысли в первой статье, рядом с ее задушевностью, ее собственным изяществом (несмотря на некоторую крутизну слога) в памяти является недавняя статья г. Дарагана, где недостаточно объяснены художественные недостатки вашего «Накануне», где явно неловкое посягательство на независимость нравственного идеала и странное понимание морали. В самом деле, порицая «Накануне», как творение, Инсарова и Елену – как поэтические типы, зачем нападать на нравственную сторону Елены, именно на абсолютно нравственную сторону, а не на относительную, не на русскую пятидесятых годов? Читая «Накануне», статью Дарагана и ядовитую заметку «Искры», я мучился желанием отвлечь нравственный вопрос от эстетического… Не знаю, удалось ли мне это, но я, по вашему совету, надену свой медный таз на голову и буду верить, что это шлем; вы вполне правы: без частицы такой веры жить нельзя. Нельзя не чувствовать, при первоначальном чтении романа, тех эстетических недостатков, на которые указывает г. Дараган; нельзя не быть удовлетворенным, когда он чует поэтическую безжизненность Елены и Инсарова (я говорю «чует», потому что он неотчетливо высказал свой приговор с этой точки зрения). Мне кажется, что он даже слишком снисходителен к вам, как к художнику, недостаточно показал, до какой степени вы недостойны сами себя как поэт в этом романе, недостойны творца «Рудина», «Гнезда», «Муму», «Затишья», даже «Записок Охотника», которые, однако, много уступают в деле зрелой красоты этим повестям. Что за математическая ясность плана! Разве такова жизнь? Жизнь проста; но где ее концы, где удовлетворяющий предел красоты и безобразия, страдания и блаженства, прогресса и падения? Отвлеченное содержание жизни, уловляемое человеческим рефлексом, тенью скользит за явлениями вещественными, и воздушное присутствие этой тени и при взгляде на реальную жизнь, и при чтении способно возбудить своего рода священный ужас и восторг. Но приблизьте эту тень так, чтобы она стала не тенью, чтобы она утратила свою эфирную природу – и у вас выйдет труп, годный только для рассудка и науки… Отчего «Рудин» так высоко поднимает душу, так любим всяким русским умом, умевшим хотя немного жить для идеала? Отчего «Гнездо» так умиляет, примиряет сердце? Оно написано тем ярким, сжатым языком, которым написано почти все лучшее у вас, в котором теснятся образы за образами, мысли и чувства друг за другом, почти нигде не оставляя тех бледнеющих промежутков, которыми полна действительная жизнь и которых присутствие в изложении непостижимо напоминает характер течения реального перед наблюдающей душой, напоминает так же неуловимо, как известный размер стиха или музыка напоминает известные чувства. Несмотря на эту резкость языка, которого течение похоже больше на течение ярких воспоминаний в соображении, чем на течение жизни, несмотря на это, «Гнездо» поэтично и эфирно, потому что мысль о прогрессе, протекающая под живыми явлениями драмы, не первая бросается в глаза. Уже остывши от первой грусти и умиления, слышишь ее присутствие и не знаешь даже, сознавал ли ее сам автор или нет. Несмотря на ту же яркость языка, герои ваши здесь, как справедливо выразился г. Анненков, представлены не с грубой выразительностью. В «Затишье» то же. Здесь читатель не потрясен так сильно, как в «Гнезде», не торжествует, как в «Рудине», не говорит: «вот он, вот он – тот, кого я ждал давно!»; здесь все лица являются как бы с равными правами; то боишься за Астахова, когда его вызвали на дуэль, и заботишься о нем, то сочувствуешь Веретьеву и понимаешь его презрение к положительному юноше, то веселишься с сестрой Веретьева, то любуешься на тупую силу и античную простоту малороссиянки, утонувшей в пруду. Здесь все лица достигли крайнего предела индивидуализации; им угрожала даже опасность потопить ахеронский челн, о котором говорил Шиллер; природа грозила убить искусство; но ваш художественный такт одной трагической чертой возвратил им всем эстетическую жизнь. Где здесь нравственный исход? Что хотел сказать автор? чья вина? что надо сделать? мы этого не видим ни в «Рудине», ни в «Гнезде», ни в «Затишье»… Душа полна, и грусть ее отрадна, потому что она слышится при чтении «Накануне». Определить с точностью, почему это – едва ли возможно… Вы не перешли