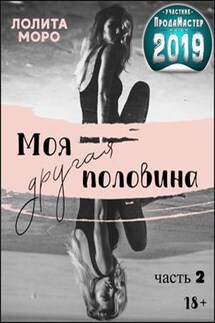В раннем сыром петербургском апреле 1913 года, мглистым днем, на Смоленском кладбище, у раскрытой могилы, куда опускали заколоченный гроб (в том гробу лежал самоубийца, красавец-офицер), кто-то молился, кто-то плакал, кто-то угрюмо молчал… Кто-то влажным, захлебывающимся шепотом записного сплетника бормотал: о мертвых, конечно, out bene, aut nihil – или хорошо, или ничего, а между тем несчастный Владислав не только кропал стишата (кто ж их не кропает в наше-то время), но и якшался с поэтами, да не с простыми, а с самыми что ни на есть скандальными, с Кузминым, к примеру. А он, Кузмин, знаете что влагает в понятие мужской дружбы? Не знаете? Хо-хо!.. «А что он влагает?!» – вопрошал от большого ума второй любитель посудачить на чужой счет. А третий сплетник возражал, что от покойного требовали-де жениться на какой-то девушке из Риги, а он не хотел, но отказаться было бесчестно, вот он и выстрелил в себя… Тут уж первый своим жарким шепотом возражал: дело, мол, вовсе не в какой-то рижской девушке, а в девушке петербургской, да и не в девушке вовсе, а, пардон, в шлюхе, в актерке. Причем ее и шлюхой-то назвать – значит сделать комплимент, потому что шлюхи промышляют старым добрым ремеслом, а пассия покойного Князева, она ведь, знаете ли… Кабы он ее с мужчиной застал, так еще, может, жив был бы – плюнул бы, да и ушел восвояси, только он ее застал не с мужчиной… «А с кем?!» – вопрошал приятель-тугодум…
И тут все трое переглянулись и умолкли, с трудом удерживаясь, чтобы не таращиться в упор на двух женщин, застывших чуть поодаль от собравшихся, в тени кладбищенской стены, неподвижностью своею и бледностью могущих поспорить с надгробиями. Обе они были высоки и модно-декадентски-тонки, почти бесплотны, обе коротко стрижены и слегка словно бы пошатывались от модного же кокаина, а может быть, и от горя. Одна – угловатая брюнетка с высокомерным профилем, покровительственно, словно старшая сестра – младшую, держала за руку вторую – золотоволосую, бело-розовую, пленительную, цветущую и сияющую, несмотря на горький заплаканный рот и опущенные влажные ресницы.
Когда гроб канул в ямину и первые комья земли ударились о крышку, отец самоубийцы заплакал, а мать повернулась к светловолосой красавице и сказала гулким пророческим голосом:
– Бог накажет тех, кто заставил его страдать!
Брюнетка зыркнула на нее исподлобья жгучими черными очами, которые казались нарисованными на ее лице небрежным, асимметричным росчерком угля в смеси с темперою, стиснула темно-красные карминовые губы в страдальческий комок и потянула за собой подругу – уйти. Та послушно побрела, незряче шаря по сторонам переливчатыми, опаловыми глазами, словно пытаясь осознать, где находится, зачем сюда приходила, куда сейчас направляется, а может быть, хотела просто запомнить это место. Но запомнить не удастся, и спустя восемь лет, когда две подруги снова окажутся на Смоленском кладбище (придут проводить в последний путь великого поэта, великого страдальца и великого грешника, который как-то раз послал одной из них черную розу в бокале золотого, как небо, аи), они долго будут бродить по слякотным февральским дорожкам в поисках могилы несчастного самоубийцы, напоминая друг дружке: нет, не здесь, где-то у стены, да нет же, не у стены, а где-то здесь… Так они и не найдут и уйдут с кладбища, промочив ноги в худых ботиках, и будут мрачно размышлять, поддерживая одна другую, что несчастный самоубийца оказался на поверку самым счастливым, глупец – самым разумным, порывистый мальчишка – самым расчетливым, потому что он умер по своей воле, а не по приговору какого-то там ревтрибунала, как муж брюнетки. Да, он сам пустил себе пулю в висок, а не какой-нибудь матрос в кожанке бабахнул в него из «маузера» в темном, пахнущем кровью подвале, и не умер он от голода, как умер великий поэт и великий грешник, тот самый, который никак не мог вспомнить, «он был или не был, этот вечер», когда пожаром зари было сожжено и раздвинуто бледное небо…
Во время этих кладбищенских блужданий светловолосая красавица скажет вдруг, отводя свои опаловые, переменчивые, лживые глаза от темных, требовательных глаз подруги:
– Ты знаешь, я решила. Я уеду. Попрошу дать мне разрешение на выезд в Берлин, якобы для устройства выставки, но больше сюда не вернусь. Все. Не могу больше!
Брюнетка наставительно возразит ей: мол, умирать надо в родной стране – однако золотоволосая только своенравно вскинет голову и ответит, что умирать она вообще пока не собирается. «Что это ты, Анна, взялась меня хоронить? – воскликнет она. – Ну и что, что я тебя на четыре года старше?! Все равно мне только тридцать шесть, и я, может быть, еще узнаю свое счастье!»
Анна Ахматова посмотрит на нее с изумлением, потому что и она сама, и все их знакомые были совершенно уверены, что в этой паре именно она – старше, умнее, серьезнее, греховнее, опаснее, мужественней (во всех смыслах этого слова), а Оленька – дитя, девочка, куколка, Коломбина, Психея, дитя… ну что с нее возьмешь…
В самом деле, в ней было что-то детское, особенно в глазах и в безмятежном золоте волос, и эта детскость в сочетании со знойной женственностью форм и чувственностью рта разила наповал мужчин и женщин. Набоков еще не написал и даже не задумал в то время свою «Лолиту», однако словами «вечная нимфетка» вполне можно было бы назвать актрису и художницу Ольгу Судейкину, в девичестве Глебову, которая сводила с ума литературно-художественный Петербург начала ХХ века так, как его, быть может, с ума еще никто не сводил и больше уже не сведет.