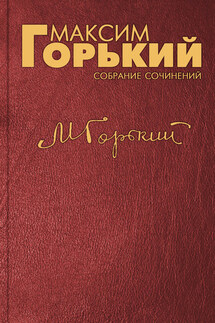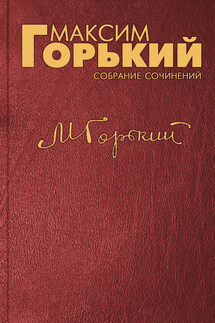У них было особое выражение глаз. А мне казалось даже – особый запах. И уж точно: особая походка.
Это походка одиноких людей.
Я сразу обратил на них внимание – много лет назад, когда только начал записывать рассказы советских евреев.
Иногда это был всего лишь легкий всплеск слов и жестов – сбивчивые, как торопливый выдох, исповеди в очередях у американского и нидерландского посольств (последнее, как вы знаете, долго представляло в Москве интересы еврейского государства), затем – израильского консульства.
Преодолевая страх, они приходили за вызовами и визами. И я запомнил их, с кем‐то, вроде бы, подружился.
Но потом многие потерялись, куда‐то исчезли. Только лица и голоса по‐прежнему живут в моем блокноте.
Неподвижное, окаменевшее будто лицо. С ним явно контрастирует надрывность речи.
– Вы не догадаетесь, за что я ненавижу общество «Память»… – Она делает паузу, но мне ничуть не хочется гадать. Все равно мне не придет на ум ее довод: – Не могу перенести, что вынуждена говорить на их языке!
Ловит мой недоуменный взгляд:
– Я не в каком‐то переносном смысле – в самом прямом. Я общаюсь, мыслю, читаю, мечтаю – только по‐русски.
Она истерична, в основном лишь себя и слушает. Все же, не будучи права, приближается неожиданно к истине.
– Они… они презирают меня. Самое суть мою презирают. А я вынуждена пользоваться их языком. Они твердят, что евреи спаивают русский народ, сгубили деревню, испортили культуру. Это демагогия? Но вот лучший их аргумент: я отвечаю им на их языке. Что у меня своего, еврейского? Действительно, пустоцвет, перекати‐поле…
Молчу по‐прежнему, боясь согласиться с ней, по больному ударить. Хотя знаю: здесь почти все – правда… В голове ее, конечно, мешанина из прочитанных книг: Ремарк, Хемингуэй, Кафка, Булгаков… В разное время эти авторы были модны, каждым она увлекалась недолго. Но ведь скорее всего любит она – действительно, любит – Есенина: чувствует надрыв души, что таится за бедными рифмами, за сравнениями типа: «голова моя машет ушами, как крыльями птица». Вероятно, еще ей близки в Есенине безоглядность искренности, безотчетное стремление к исповеди.
В почтовом отделении на Большой Ордынке спрашивает меня:
– Нет ли у вас ручки?
И тут же, признав во мне своего, разъясняет:
– Надо написать собственные данные, чтобы прислали из Израиля вызов. Ведь и вы, не правда ли, пришли сюда за тем же?
Нет нужды объяснять ей что‐либо. Просто мы вместе отправляемся к израильскому консульству, где она опускает в ящик свой конверт. Стоим потом в толпе. Вслушиваемся в повторяющиеся, как на пластинке, разговоры. Идем обратно к метро, вдыхая резкие запахи весны.
– …В Израиль едут из‐за детей, а у меня их нет и не будет…
Несколько коротких, внезапных, вроде бы, фраз. И вот уже ее жалкая, смятая, пролетевшая почти жизнь лежит передо мной.
Ей сорок девять, выглядит много моложе: так случается порой именно с теми женщинами, которые махнули на себя рукой. Черная резинка скрепляет пышные рыжие волосы. Ничуть не смущена она тем, что на синем плаще красуется масляное пятно, а серые туфли исцарапаны по бокам.
Она преподает в ПТУ какие‐то технические дисциплины. В последние годы, сама замечая за собой несдержанность, все-таки выучилась контролировать себя на службе: молчать, выглядеть деловой и собранной. Однако это трудно давшееся искусство растаяло, точно и не было, в феврале. Да, в феврале девяностого, когда в Москве и других городах томительно ожидали погромов.
В те дни, думая исступленно об одном, она пол‐урока однажды проговорила об антисемитизме. Класс смотрел на нее с недоумением. И, конечно, донесли директору. Тот вызвал ее к себе, морщился, выдавливая слова, но не попросил, как ждала она, заявления об увольнении – попросил «не отвлекаться на занятиях от темы».
У метро прощаемся. Зачем‐то обмениваемся телефонами, хотя ясно, что не позвоним друг другу никогда. И вот она уже исчезает в потоке ног и локтей, в запахах пота и продуктовых сумок, в гуле той речи, которая пока еще так ненавистна ей и по которой потом не сможет разучиться тосковать.
Мокрый, уже с утра темноватый мартовский день. Гудящая – все та же – толпа. Она выплевывает одни и те же слова, точно шелуху от семечек: багаж… билеты… погром…
Как с неба, упало другое словцо: счастье.
Почудилось? Но и назавтра, и через день слышу завистливое: евреям хорошо сейчас!
Иногда утверждают это лишь интонацией, взглядом: русские, украинцы, грузины – все те, кого заносят сюда сладкие мечты об отъезде.
Ах, старый этот, с огромной бородой, анекдот! «Жена-еврейка: не роскошь, но средство передвижения». Слышали? Теперь за фиктивный брак по пять тысяч дают.
Все равно, конечно, вздрагиваю:
– Нам‐то счастье…
На этот раз словцо, точно рахат‐лукум, тает во рту молодого бакинского еврея. Улыбчив, польщен вниманием посторонних людей – они расспрашивают подробности бакинского погрома.
– Нам‐то еще счастье… Дали армянам всего год сроку для выезда из Баку, а евреям – три. Русским? Пять…
Не знаю, так ли это. Скорее всего, сроки выдуманы молвой. Но думаю я не о том, а об его унизительной радости. Древние у нее корни: поднимается порой дух еврея, если оказывается он не самым презираемым, стоит не на последнем, но хотя бы так – на предпоследнем месте.