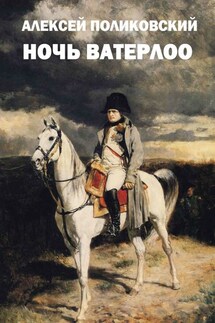Читать онлайн полностью бесплатно Андрей Бычков - ПЦ постмодернизму. Роман, рассказы
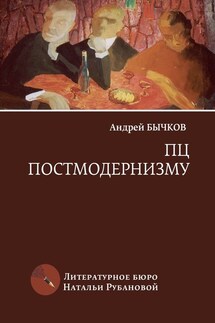
Андрей Бычков – автор 17 книг в России и за рубежом. Лауреат премий «Silver Bullet» (USA), «Тенета», «Нонконформизм», сценарист культового фильма Валерия Рубинчика «Нанкинский пейзаж».
Литературное бюро Натальи Рубановой
В оформлении обложки использована картина «Троица» художника Станислава Бычкова, отца автора книги.
Дизайнер обложки Дмитрий Горяченков
Редактор проекта Наталья Рубанова
© Андрей Бычков, 2020
© Дмитрий Горяченков, дизайн обложки, 2020
ISBN 978-5-0051-3098-3
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Графоман
роман
Посвящается всем, кому проклятый социум так и не дал реализоватьсвою индивидуальность в литературе.
Часть первая.
Никто
Сознавая, что это порок, каждый раз, где бы он ни был, когда его бог внезапно вселялся в него, каждый раз он клялся себе, что это последний, последний, и грозился убить своего бога, предать его раз навсегда, и снова, и снова, отданный на растерзание, извергал Слово, будь то салфетка в кафе или дверь в общественном туалете, или единый билет, носовой платок, кирпичная стена, мусорный бак, на котором можно чиркать гвоздем, как на асфальте – мелом. Что это было? Что за осколки невидимой поверхности, к которой он прикоснуться пытался в своей странной молитве? То, чего быть не должно. Сознавая, что это порок… И, как каждый порок, рано или поздно это должно было его разрушить, даруя лишь миг наслаждения, ввергая потом в бездну отчаяния.
Он понял с утра, что будет тот самый день, начнется, как и другие, в которые он спотыкался, как, например, тогда (может быть, это было вчера, может быть, год или два назад), а закончится… Тогда он сидел в кафе, разжевывая кольцо коржика, кроша его незапломбированными зубами, запивая суррогатным кофе, стол пах пельменями, он жевал и смотрел на какого-то типа в мастеровитой кепке, который стоял в очереди со своей «теткой», придерживая ее за голубую рыхлую руку повыше локтя большим и перстневым пальцами, средним и указательным постукивая в такт музыке, тра-ля-ля пела певица. Он жевал и смотрел, и вдруг почувствовал снова, как и тогда, что дело не в этом типе с мастеровитой кепкой (тот уже ее снял и, держа под мышкой, приглаживал редкие длинные волоски аккуратно, ребром ладони), и не в его спутнице, и не в душном кафе, где вентилятор крутится вместе с мухами, мертво сидящими на остро отточенных лопастях, не в этом во всем дело, и, может, ничего этого нет, а есть теперь только бог, его бог, который вновь приближается сзади неслышно, трогает позвоночник, начинает играть и казнить, шепчет: ну, же, вот салфетки в стакане, что тебе стоит, возьми, согреши, брось и уйди, я подскажу тебе, что написать в этот раз. Тогда снова (может быть, это было вчера, а, может быть, и неделю назад) это словно блеснуло в крови, поднялось упругим жгутом и ударило в мозг, ослепляя. И он написал на салфетке:
«Но если их убил я, я убил отца своего и мать, значит, я сделал это вместо кого-то другого, кто отца своего и мать теперь никогда уже не убьет».
Скомкал и бросил под стол, поднялся и вышел, не глядя на этого типа с окровавленным червяком слипшихся волосинок, с кепкой в авоське, с вздрюченным, словно выдавленным из тюбика, лицом, не глядя на его обвислую отечную спутницу с безжизненным молоком глаз и серой сметаной подбородка, с голубовато-черными ляжками повыше локтей. Вышел, чувствуя в горле поднимающиеся комки непроваренных пельменей и черный (без молока) суррогат раскаяния. Зачем он сделал это? Эдипов комплекс? Чушь собачья. Где же добро? И тогда, повинуясь неведомому ветру инстинкта, он бросился в метро и поехал к матери в Бирюлево, он был так ласков и внимателен к ней в тот вечер, что она спросила его, не заболел ли он, и он ответил, нет, просто он понял, что очень любит ее. Тогда. А в это утро солнце, поднявшись из-за тополей, кажется еще не проснувшимся ребенком, нет еще его жаркого беспощадного крика, плавящего асфальт, в это утро, когда он еще только проснулся, его бес снова здесь, он чувствует его пребывание во всем, в стакане воды на столе, в блеске тополиной листвы за окном, в скрипящей детской коляске и в невозмутимости автомобиля, который просто стоит и не едет. Что случится сегодня и как настигнет его его бес? И можно ли с ним бороться? Не брать с собой ручку? Но ведь тогда, без ручки, пронзенный все той же отравленной стрелой, он все равно не выдержал и написал мелом на железной стене гаража, думая, что его никто не видит, он написал:
«Я был последним любовником Аллы Пугачевой, и то, что я сейчас расскажу, возможно, немного шокирует вас, но я хочу признаться, хочу признаться и облегчить себе, ночи…»
И какой-то человек, неслышно подкравшийся сзади, положил ему руку на плечо, когда он уже ставил последние точки в этой никчемной записке, в этом послании неизвестно кому и зачем, не избавляясь от огня вожделения и не призывая его, нет, не понимая сам, зачем делает это, и кто заставляет его поднять кусок мела из кучи битого щебня и написать именно это. Оставить еще одно семя, теперь на железной стене, где-то в городе, в котором живет, и где уже много посеяно им этих плевел, избавиться от себя, он хочет сам, чтобы это осталось где-то, и было все же кем-то прочитано, а может быть, и не хочет, это все тайные мысли, которых не думают головой, которые сами живут в той слепой и голодной кишке отчаяния, которая тоже когда-то хотела… и вдруг кто-то неслышно подходит сзади, кладет ему руку на плечо, да это могло случиться, а могло и не случиться, кто этот человек, стоит ли оборачиваться, он замер тогда, напрягая мускулы спины, чтобы тот человек понял – пружина может внезапно разжаться, подобно змее, но человек за спиной, снимая руку с его плеча, вдруг засмеялся, сказал добродушно, ты клевый малый, ставлю четыре пива, пойдем, покалякаем, наври мне про Алку, люблю, когда талантливо врут… А он? Почему он не обернулся, ведь это был, наверное, очень хороший человек, не придающий словам слишком много значения, быть может, летчик-испытатель… А он? Он сжимался все туже и туже, не оборачиваясь, и тот, другой человек, его случайный добродушный читатель, любитель «Колоса», женщин и баек, завсегдатай автостоянок, где мужики вечерами подсаживаются на корточки друг к другу, спрашивая, не надо ли чего, тот просто хмыкнул, не оскорбил, нет, он ничего не сказал, просто хмыкнул и пошел своей дорогой, скрипя ботинками по битому щебню, осколкам стекла, сухой штукатурке, всему тому хламу, который валяется у задней стены гаража, где только мальчишки носятся, срубая прутьями лопухи, да забегают помочиться бездомные собаки. А он сам? Почему он не обернулся? В чем причина? Нет, не то, что подумал тот случайный любитель пива, и, может быть, не то, что он внушал себе сам, сознавая в себе своего беса, называя его богом, поддаваясь ему, нет, дело было совсем не в том, что он сам про себя называл пороком, нет, а в том, что это были всего лишь осколки, только осколки, а самого стекла не существовало, ему нечего было сказать тому случайному человеку, кроме того, что он написал, может быть, когда-нибудь они и сомкнутся, эти осколки, подобравшись, друг к другу по форме, когда их будет очень и очень много, когда он засеет ими этот город, когда уборщицы не будут успевать заметать скомканные и брошенные им в скверах и кафе салфетки, милиция не будет успевать смывать надписи на кафельных стенах, а толпа затирать, зашаркивать мел на асфальте. Но и после того случая с человекам, положившим руку ему на плечо, пережив страх, а потом тоску одиночества, он все же рисковал иногда, снова в преддверии ужаса, это была мучительно, но он продолжал оставлять следы своего безумия, ввергаемый своим бесом во внезапное ослепление. Но какой жертвы он потребует от него сегодня, что должен будет он написать и где? Ему кажется, что будет очень и очень жарко, он проснулся, потому что птицы спешили петь, пока чума жары не загипнотизировала их в листве тополей, превращая в обугленные, безжизненные наросты. Значит, ты все же проснулся и выпил стакан пока еще прохладной воды? Он или ты? Какая разница, ведь он – это и есть ты, а ты – это, конечно же, он. Только так ты спасался, читая книгу, только так грешил, только так ты умирал вместо кого-то. И сегодня – это тихое утро, полное жизни, которую ему суждено утратить, принося себя в жертву своему бесу, преломляясь в осколке, оставаясь частью, чтобы потом, когда-нибудь, кто-то, неизменно следящий за ним, соединил его концы и начала, расставил его фразы по строкам, размотал и раскрасил его сюжеты, сделал другую, ремесленную работу, оставляя ему только то, что он сам хочет взять на себя, – его церковь, влагалище ада, алтарь мерзких грехов, хлеб и вино отвратительного порока, – говоря от первого лица, называя себя по имени… Откуда же в нем это чувство необъятной вины за то, что совершают другие? Эта странная радость быть губкой для грязи? Когда святой начинает развратничать, делает ли он это во славу божию? И кто имеет право взять на себя такой грех? Но утро уже одевается в саван жары, он должен начать, и, наверное, с самого конца, если он знает, что это последний день. Если он никогда не вернется в эту комнату, то он может написать на ее стене ручкой или кистью, неважно: