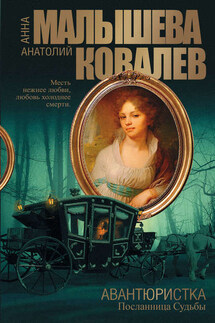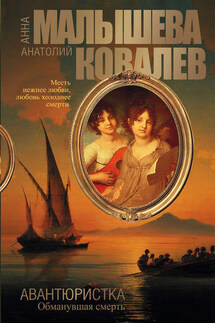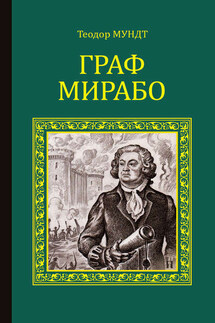«Царев человек». – Фальшивый изумруд и поддельный полковник
Ельник, что тянулся вдоль большой дороги, был настолько стар и гнил, что не нашлось охотника выкупить его у разорившегося барина. Суд отобрал его в казну. Лес было решено пустить на дрова, а вырученной от продажи дров суммой покрыть часть долгов. Об этом в первую очередь был извещен староста деревни Епифан Скотников, так как управляющий имением находился в бегах. Проворный немец, почуяв, что запахло жареным, прихватил последние денежки своего хозяина и был таков.
Староста, щуплый на вид, «дохлехонький» мужичок, с жиденькой в три волоска бороденкой, пригласил к себе братьев Никитиных, местных деревенских лесорубов, и сказал им, лукаво прищурив маленькие наглые глазки:
– Зачните рубить ельник-от не со стороны деревни, а зайдите с Большой дороги…
– А нам какая в том корысть, две версты лишних по кочкам ноги бить? – грубо оборвал старший брат Демьян, сильно недолюбливавший старосту за его оборотистость и хитроумие. Тот ссужал земляков деньгами и мукой за безбожные проценты.
– Нам не расчет кажный день крюк давать, домой и к ужину не поспеем, не то что к обеду! – подхватил младший брат Потап.
– Да выслушайте-от сперва, прежде чем ерепениться!
Скотников знал, что Демьян его прилюдно называет «жидомором» и «кровососом», однако ничего до сих пор против него не предпринял, потому как побаивался. Старший Никитин слыл на деревне колдуном. Пустые языки трепали, будто он может увидеть прошлое и будущее человека, едва лишь на него глянув. Практичный и расчетливый Епифан Скотников не сильно россказням верил, однако предпочитал не злить Демьяна.
– Через три дня сюда понаедет-от начальство, – сообщил он, – пригонят из управы приставов. Начнут ельник-от мерить да усчитывать…
– А тебе-то чего? Твой он, что ль? – все еще не понимал Демьян.
– А вот чего, – снова прищурил глазки Скотников. – У нас-от ноне всего три дня, не боле. Надыть свезти дрова на двор лесничему Петру Селянину. Его изба как раз стоит-от на отшибе, у Большой дороги.
– Упрятать хошь от начальства? – с презрительной усмешкой бросил старший Никитин.
– Ясно дело, – подхватил Потап. В деревне его считали немного придурковатым, не имевшим своего ума. Лет ему уже было за тридцать, но до сих пор он во всем и всегда слушал и поддерживал старшего брата и жил его мозгами. – А после продаст, а барышом поделится с лесничим!
Обрадовавшись собственной догадке, Потап даже хлопнул в ладоши.
– Небось, не впервой у барина воровать? – все больше злился Демьян.
– Да уж, как липку, бедненького обобрал-от! – рассмеялся староста. – В одних подштанниках по миру пустил гуляти!
Братья не понимали шуток и потому недоуменно переглядывались, внимая «злодею». Отсмеявшись в полном одиночестве, Епифан Скотников строго посмотрел на Демьяна и, погрозив ему пальцем, сказал:
– Ты мне это брось! Барин наш сам себя обворовал-от картежной игрой и прочими-от соблазнами. Ему ноне от тюрьмы никак не отвертеться. А нам-от, неповинным холопам его, придется зиму без дров куковать.
Староста сделал паузу, чтобы посмотреть на реакцию братьев. Демьян сохранил лицо неподвижным, а Потап напротив: раскрыл от удивления рот, выпучил глаза и ударил себя кулаком по лбу.
– У нас всего ничего, три дня… Лесом бы надо запастись. Для мира постараться, для деревни…
Епифан произнес все это тихо, не выказывая особого торжества над простодушными братьями. Кому, как не ему, знать, чем грозит крестьянским семьям вырубка старого ельника, богатого грибами да ягодами, тетеревами да зайцами. Всего этого они должны в одночасье лишиться. А в ореховую рощу их не шибко-то пускают. Соседский помещик весьма строг на этот счет. Завел такого вурдалака-егеря, что тот даже детей не щадит, палит из ружья без предупреждения.
– С Богом, – сказал староста на прощание присмиревшим Демьяну и Потапу и даже перекрестил обоих.
Братья работали не покладая рук от рассвета и до заката. Время от времени к ним приходил на помощь кто-нибудь из сельчан, оторвав драгоценные минуты от посевной страды. Дел у мужика весной невпроворот, и эта помощь дорогого стоила.
Стоял необычно жаркий для северных губерний месяц май тысяча восемьсот тридцатого года. Вместе с жарой распространялись и слухи. Поговаривали о восстании в Польше, о будто бы неизбежной войне с Персией, о неизвестной болезни холере морбус, объявившейся на юге страны. И, как всегда, шептались об отмене крепостного права. Слухи о воле начали ходить сразу после изгнания французов. Ждали от царя, прозванного Благословенным, высокой милости, а дождались скупых слов в манифесте: «Крестьяне, верный наш народ, да получат мзду от Бога…» «От Бога, значит! – горько вздыхали мужики, расходясь из церквей после чтения манифеста. – Не заслужили, стало быть… Зря понадеялись…» Теперь приходилось уповать на нового государя. Слыхали мужики от верных людей, будто бы батюшка царь Николай Павлович как раз такие намерения имеет и что «отпустит» крестьян в тот самый день, когда женит наследника престола. Великому князю Александру шел уже двенадцатый годок, а значит, ждать оставалось недолго. «Ничего, двести лет терпели, еще малость потерпим», – говорили мужики и, крестясь, снова брались за работу.