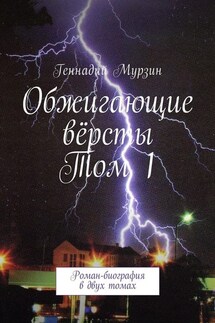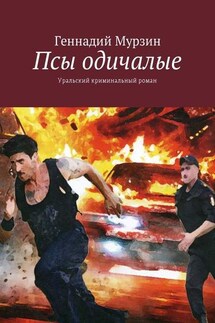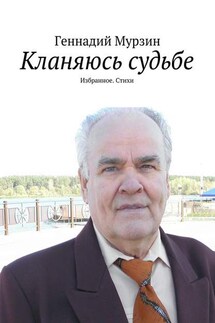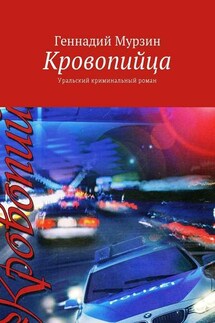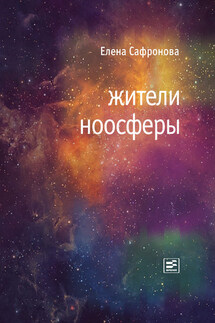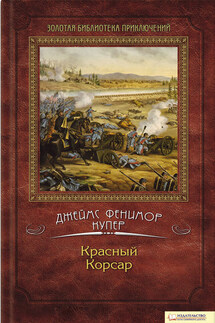В долгом путешествии по крутым и извилистым, подчас весьма и весьма тернистым жизненным путям-дорогам бессчетное количество раз приходилось писать автобиографию: требовали в школе, в военкомате, на новом месте работы, в пионерии, комсомоле и, наконец, в партии, в той самой, единственной и неповторимой – КПСС. С меня требовали, я писал. Всегда – с большущей неохотой. Почему? Правду – нельзя было, а лгать не хотелось. Поэтому ограничивался короткими, но обязательными, сведениями: где родился и кто родители; где учился или работал. А когда «забывал» упомянуть о братьях и сестрах, а их у меня в живых было четверо, то мне строго напоминали.
Вот примерно как выглядела моя анкета:
Фамилия, имя, отчество – Мурзин Геннадий Иванович;
Число, месяц, год рождения – 9 февраля 1941 года;
Место рождения – деревня Чусовая, Ирбитский район, Свердловская область;
Социальное происхождение – из служащих (с этим пунктом всегда возникали проблемы и часто затруднялся, как правильно написать: с одной стороны, отец из батраков, мать из середняцкой части крестьянства, следовательно, по корням, ближе к земледельцам, с другой стороны, к моменту моего появления на грешной земле отец уже был служащим, то есть агрономом, а мать – домохозяйкой… Так кто я?);
Национальность – русский;
Образование – неполная семилетка;
Место работы – Верхнетуринский машиностроительный завод;
Профессия – ученик каменщика, каменщик, разнорабочий, формовщик, грузчик, токарь;
Пребывание в пионерии – да;
Пребывание в комсомоле – да;
Пребывание в КПСС – кандидатом в члены КПСС стал в марте 1962 года…
Ну и прочее.
И вот только теперь рискую (потому что не знаю, что из затеи станется) вернуться к тем, когда-то писанным на треть тетрадного листочка, автобиографиям. И вот только теперь попытаюсь тогдашнюю скупость расшифровать. Расшифрую, естественно, в меру сил и способностей.
Сказано – сделано. Что-то дельное получилось? Судить не мне. Мне же изначально хотелось, чтобы читатель не судил строго мою искренность (буду очень стараться быть предельно правдивым); чтобы читатель не искал в моем опусе некого политического заказа, оплаченного некими политическими силами. За мной никто и никогда не стоял, не стоит и, смею, надеяться, уже стоять не будет.
Моя жизнь, как бы она не выглядела со стороны, – это моя и только моя жизнь; та самая, которая у человека одна и которую человек проживает так, как ему на роду написано. И как бы он ни тужился, но в корне изменить предначертанное судьбой не сможет. В его лишь воле – легкая корректировка. Ну и я пытался скорректировать постоянное давление судьбы, что-то изменить, как-то повлиять на ход истории одной-единственной жизни. И как? Повлиял? Самую малость, честно говоря. Если что-то удавалось, то судьба тотчас же била – крепко, больно, наотмашь.
Моя жизнь – это жизнь миллионов; она не хуже, но и не лучше, чем у других; она такая, какая была у поколения, которое народилось на свет либо перед самой Великой Отечественной, либо на первой ее стадии. Это поколение заморышей, у которых имелся единственный заменитель грудного молока матери: в лучшем случае – хлебный мякиш, смоченный слегка сладкой водицей, а в худшем – собственный указательный палец.
Мой опус расходится с устойчиво внедряемым в сознание нынешнего молодого поколения мнением насчет прежней, советской жизни. Эта, жизнь советская, была очень даже полосатенькая. Во всяком случае, не настолько розовенькая. Да, трубили пионерские горны и маршировали колонны счастливых красногалстучных. Да, были детские дома пионеров и пионерские лагеря (кстати, мне так и не довелось почему-то ни разу переступить порога дома пионеров или пионерского лагеря), где дети жили по однажды заведенному правилу (ну, об этом сужу по рассказам других, счастливее счастливых), в котором все было прописано – от часа пробуждения и до того, с кем дружить пионеру и кого любить. Да, человек имел право на бесплатное образование, на труд и на отдых (лично мне из трех этих компонентов достался один – право на бесплатный труд). Да, советские люди имели право на достойную старость. Да, значительная часть советского общества всем этим довольствовалась и более ни на что не претендовала. Потому что знала: нет в мире другой такой страны, где «так вольно дышит человек». И дышали полной грудью. До той поры, когда не появлялся некто и не перекрывал дыхательные пути. Но, задыхаясь, корчась в судорогах, все равно были счастливы. Садомазохизм какой-то.
Но была у тогдашнего советского человека и иная жизнь, значительно отличающаяся от кадров кинохроники. В той, иной жизни было место для жестокости и насилия, для предательства и трусости, для нищеты и голода-холода, для разгула преступности и вандализма, для тунеядства и бродяжничества, то есть именно для всего того, за что корят вчерашние нынешнюю власть.