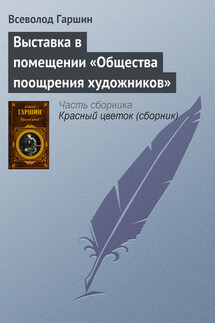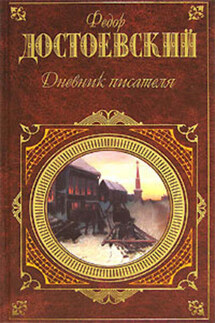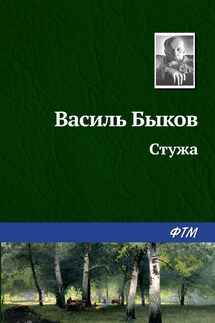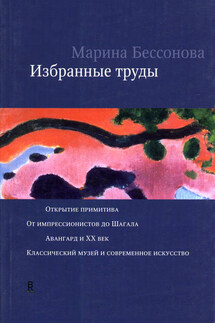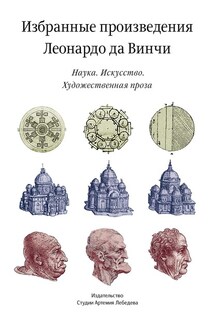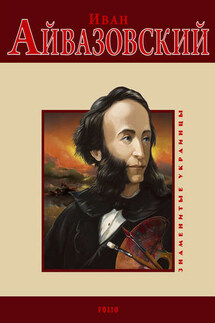«Одних зашивали в звериные шкуры, и они погибали, пожираемые собаками; другие умирали на кресте, или их покрывали горючими веществами и, по заходе солнца, жгли вместо факелов. Нерон уступал свои сады для этого зрелища… Хотя эти люди и были виновны и заслуживали строгое наказание, но сердца все-таки открыты для жалости к ним».
Так говорит Тацит о заживо сожженных в царствование Нерона христианах.
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его.
Эти слова вырезаны Семирадским на раме его колоссального произведения.
Когда вы входите в зал, где стоит картина, почти неприятное чувство овладевает вами: вы видите перед собою какую-то яркую, пеструю путаницу мраморов и человеческих фигур, путаницу с резкими пятнами, огненными, черными, перламутровыми, золотыми.
Только подходя ближе и делая некоторое усилие, вы можете разобрать, в чем дело. Слева пестрая народная толпа, теснящаяся на мраморном крыльце дворца, выходящем в сад. Более ста фигур в светлых и ярких одеждах, мраморы, сосуды, блестящие металлами, украшения, горящие драгоценностями, цветы, опахала, роскошные носилки цезаря, его ручной тигр. Справа цветами обвиты столбы, около которых блестит пламя жаровни и факелов, зажигаемых нагими рабами, на столбах увязанные веревками пуки соломы, куда по грудь запрятаны мученики… Сейчас зажгут эти пуки, а некоторые, сзади, уже начали гореть, разбрасывая искры.
Взгляните на эту пеструю толпу. Недостаток ли искусства художника или, быть может, его намерение – не берусь решить – сделали рассматривание отдельных фигур картины крайне утомительным. Вы видите толпу, массу, разодетую и полуобнаженную, разукрашенную тканями и золотом. Но ваше внимание скоро утомляется, когда вы начнете рассматривать отдельные фигуры; ни одна фигура, ни одна группа не выделяется резко на этом общем фоне.
Главную фигуру, цезаря Нерона, вам приходится искать глазами. Вот он, одутловатый и смуглый, пресыщенный, скучающий, для возбуждения притупленных нервов придумавший такое утонченное зрелище, сидит в роскошном раззолоченном, инкрустированном перламутром паланкине, вместе со своею женою Поппеею. В ее лице, жирном и вялом, ничего не видно, кроме чувственности; даже на такое экстра-тонкое зрелище она смотрит апатично и тупо. Черные рабы, несущие носилки, почти не выражают своими лицами ни жалости, ни злорадства. Их черную кожу не проберешь чужим страданием, а ненависти к христианам они иметь не могут: что для них христиане?
Носилки Нерона остановились на средней площадке мраморной лестницы. От нее идут два марша. Один налево и вверх, во дворец, другой прямо к зрителю, вниз, оканчивающийся большой площадкой, на которой расположен «первый план» картины, наиболее выдающаяся и интересная ее часть. Там, вверху, за цезарем, большая давка; масса зрителей спускается по лестнице, чтобы посмотреть, как будут гореть «поджигатели Рима». Видны там и черная кожа раба, и красная полоса на белой тоге сенатора, и шлем императорского полководца, и яркие одежды, и обнаженные руки и плечи женщин. Все это смешивается в общее пятно, и пятно менее удачное из всей картины: часть лестницы, заворачивающая вглубь картины, на самый верх, с многочисленною толпою, лишена воздушной перспективы и, как говорят художники, «лезет вперед», несмотря на сравнительную туманность тонов.
А здесь, около нас, внизу, какая смесь одежд и лиц! Какое разнообразие типов и красок! Вот собралась кучка серьезных людей: сенатор, стоящий спиною к зрителю, грек-философ с повязкою на голове, что-то ему убедительно доказывающий, и слушатели. Что говорит грек? Уж не доказывает ли он нелепость подобного препровождения времени? Нет, где ему, бедному, иметь свое собственное мнение, когда в двух шагах от него сидит сам цезарь, всегда имеющий возможность посадить на столб в соломе любого философа! Должно быть, он прославляет цезаря за его мудрую предусмотрительность и строгое правосудие. Около этой группы стоит одинокая фигура старика-сенатора. Вряд ли я ошибусь, если скажу, что это – одно из наиболее удавшихся художнику лиц. Старый, толстый, обрюзглый, с отвисшими щеками, с маленькими глазками на пошлом жирном лице, он как-то скотски равнодушно смотрит на начинающуюся казнь… Его седая развратная голова увенчана пышными и нежными белыми розами; как-то дико, нелепо видеть девственные цветы на такой голове; но они показывают, что престарелый сенатор только что перестал пить и, вероятно, сейчас же после спектакля начнет вновь (древние думали, что венки из роз предохраняют от опьянения).
Конец ознакомительного фрагмента.