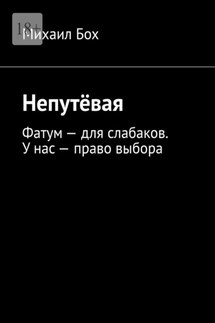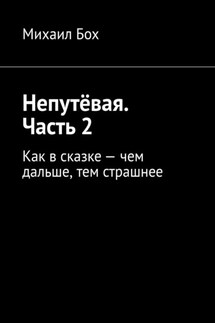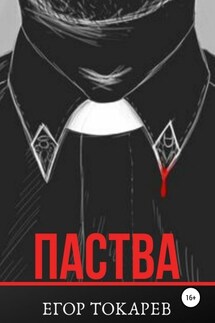Глухо и ровно, как сердце гигантского животного, стучали чугунные колеса. На поворотах они, выбивая искры из дорожного полотна, оглашали окрестности металлическим скрежетом, протяжным и тоскливым, как последний крик. Их ритм сбивался, награждая стального исполина тахикардией. Наполовину пустая, а для кого-то наполовину полная, электричка упрямо буравила старым прожектором вязкую осеннюю тьму.
Маруся сидела у окна. Глаза, в зависимости от освещения, то янтарные, то карие, то почти чёрные, смотрели серьёзно и внимательно. Тёмные длинные волосы заплетены в небрежную косу. В давно немытом стекле отражалась выбившаяся из прически серебряная прядь. Химическая война, которая была ей объявлена, результатов не дала. Упрямая седина, никак не соответствуя юному облику, проявлялась уже на следующий день. Кошачья грация движений, правильная, чуть манерная осанка, томик чего-то классического в видавшей виды обложке. Заговори она по-французски – никто бы не удивился. От образа хрупкой, женственной девушки веяло загадкой и особым, средневековым шармом. Она изящным движением перевернула пожелтевшую страницу и, возвращая руку на место, сильно и, очевидно, больно, ударилась локтем.
– Ай, блядь! – прозвучало на весь вагон отнюдь не по-французски.
Почесав ушибленное место, она убрала книгу в чемодан. Там же, в толстом кожаном чехле, мирно покоился травмат, его она осторожно и незаметно для других пассажиров переложила в карман – скоро её остановка, уже поздно и мало ли что… Оружие она любила с детства, девчачьи игры с удовольствием могла променять на войну с мальчишками. Конечно – не настоящий пистолет, но в качестве обороны несколько раз срабатывал, как весомый аргумент.
Редкие огни придорожных станций мелькали, возвращая её из полудрёмы в реальность. За последнюю неделю столько всего произошло, что она была рада оказаться вот так, вдали от суеты. Кроме опустошения и усталости она почти ничего не чувствовала. Ей хотелось поскорее оказаться дома, переступить порог и, закрывая за собой тяжёлую дверь, сказать: «Я дома». Так научила её бабушка, и привычка стала ритуалом. Каким бы тяжёлым ни был день, какой бы груз ни несла твоя душа, переступая порог, проводишь рукой по тёплому, чуть шершавому дверному косяку: «Я дома!» И словно мешок падает с плеч, всё позади, ты в безопасности.
Многое пришло к ней от бабули, а теперь её не стало. У всех были бабушки, а у нее бабуля. Даже дальние родственники редко называли её по-другому. Заботы, свалившиеся на неё, мешали осознать потерю близкого родного человека. Она, конечно, понимала, что происходит, но вот принять – пока не могла, да и сможет ли? Уж очень близки они были.
В опустевшем деревянном доме осталось множество вещей. Большинство из них бабуля ещё при жизни велела раздать. Вещи обычные, ничего не стоящие, но волю старушки внучка исполнила в точности. Отдельно от всех, аккуратной стопкой было сложено её наследство. Куча древних, ненужных штуковин: старый фонарик, настенные часы с кукушкой, и кое-что ещё, что она не взяла бы, если бы не строгий бабушкин наказ: «Ничего не выбрасывай, когда меня не станет». Она часто так говорила, и Маруся, отгоняя тяжёлые мысли, обнимала её со словами:
– Хватит, бабуль, не придумывай, мы тебя ещё замуж отдадим!
Старушка, махнув на неё рукой, смеялась:
– Ой, внученька, замуж… Скажешь тоже! Ну если только за миллионера какого, да и то – ещё подумаю! Мне, кроме дедушки, царство ему небесное, никто не нужен. Мы с ним хорошо жили, за всю жизнь ни разу слова мне грубого не сказал, голос не повысил. Вспоминая, она бережно поправляла на руке старенькие часы – память о нём.
Однажды она подошла к внучке, в добрых, уже выцветших глазах стояли слёзы. Обеими руками, бережно, как умирающую птичку, она держала те самые часы и, протягивая ей, дрожащим голосом просила: «Они хорошие, столько лет работали, а тут – уронила, не уберегла…» Через всё стекло шла кривая трещина, одна стрелка отвалилась, а вторая трепыхалась, словно в предсмертных судорогах. Часовщик, старичок-инвалид, повертев их в руках, не хотел браться за работу, посоветовал выбросить – ремонт обойдется дорого, а сами они ничего не стоят. «Нельзя, это же память, – просила девушка, – я заплачу сколько скажете, только сделайте». Пока мастер занимался ремонтом, она не отходила ни на шаг. Он, похожий на сказочного гнома, колдовал над умирающим механизмом.
– Готово. Я ещё ремешок заменил. Будут работать, и твоим внукам хватит.
Маруся от радости даже захлопала в ладоши:
– Браво, маэстро! Вы – мой герой!
Маэстро расцвел и даже смутился:
– Да ладно, делов-то. Цену он назвал смешную. Потом Маруся не раз навещала его – сначала передала баночку варенья от бабули – её счастью не было предела, а потом и просто так. Ей казалось, что часовая мастерская, как и её хозяин, существуют отдельно от всего мира. Старичок же радовался таким визитам, как ребёнок.
Теперь часы, бережно упакованные, лежали в чемодане с остальными вещами. Маруся их регулярно заводила, но надеть так и не решилась, и каждый раз, примеряя их к руке, думала: «Как это – был человек и нет? Остались вещи, дом, память, а человека нет». Тоска снова навалилась на неё тяжёлым покрывалом и глаза наполнились слезами, но тут в дверном проёме показалась проводница. Она плыла, как прогулочный крейсер по устью неширокой реки. Швартуясь напротив редких пассажиров, она, перекрывая кормой проход, поворачивалась к ним форштевнем и, покачиваясь в такт с вагоном, стояла молча, угрюмо ожидая билет.