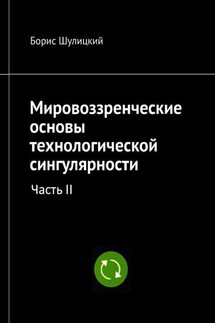Обновление кантовской критики в лице Отто Либманна
[Вклад в критику неокантианства].
Введение
Во всей истории философии, вероятно, найдется немного мыслей, которые по своему значению превзошли бы кантовскую критику разума. Она утверждает не что иное, как то, что действительная цель всей спекулятивной философии, или, по крайней мере, то, к чему стремилась всякая философия до Канта, состояла в том, что познание истинной реальности, мира как такового, навсегда останется недостижимым. Конечно, Кант пытался найти замену лишению философией ее высшего идеала. Взявшись определить границ нашего познания, он хотел лишь еще сильнее направить философскую мысль на многочисленные проблемы, находящиеся в этих границах, предостеречь философию лишь от ненужной траты сил и тем самым сосредоточить ее силы на том, что он считал единственно возможным и плодотворным поприщем. В этом и заключается величие Канта. Как могучий духовный гигант, он хочет направить поток философской мысли в другое русло, поставить перед ним другие цели. Правда, это с большим основанием следует сказать о Юме, поскольку в постулировании Кантом вещи-в-себе мы уже находим первый шаг назад к метафизическому реализму в определенном смысле. Но если ЮМ лишь подверг критике уже существующие метафизические концепции и убедительно показал их необоснованность, то КАНТ своей «Критикой разума» хотел раз и навсегда обосновать невозможность метафизического знания. Замечательна эта кантовская доктрина. Но если она также верна, то для философии это, конечно, удручающая истина. Для нее должен быть установлен предел, за который даже самые великолепные и глубокие ее исследования никогда не смогут выйти, тогда как именно преодоление этого предела всегда было любимым желанием и высшей целью всей философии, придавая ей все новые силы и новую ценность. Теперь же она ограничивает себя миром видимости, тем самым фактически ставя себя на одну позицию с эмпирическим естествознанием, которое именно в силу этой позиции не может удовлетворить потребности более глубоко и дальше мыслящих людей и тем самым сделать философию необходимой в первую очередь, поскольку определенные вопросы, как уже подчеркивал Кант, всегда будут навязываться нашему мышлению, совершенно независимо от того, можно на них ответить или нет. Что означал бы для философии серьезный отказ от метафизики, показывает уже простое соображение о том, насколько необходимым и незаменимым является метафизическое допущение чуждого сознания, «ты», для этики, самой важной философской науки, не того «ты», которое мне только кажется, а того «ты», которое знает обо мне и других объектах. На самом деле, с этим отречением уже был бы подготовлен окончание всякой философии. Как естествознание было философией для первых греческих философов, потому что они не имели представления о существовании противоположности между миром видимости и миром-в-себе, и настоящая философия началась только тогда, когда они заподозрили, что за этим миром есть другой мир, точно так же философия снова станет своего рода естественной наукой, если она позволит себе на самом деле воспрепятствовать поиску пути или даже взгляда на мир. В действительности, посткантианская философия не позволяла себе запрещать это делать. Даже те мыслители, которые позволили убедить себя в невозможности преодоления этих границ, все же в определенном смысле преступали их. Фихте, Шеллинг и Гегель построили внутри них определенные воображаемые системы, которые взорвали эти границы, вернее, вытолкнули их так далеко, что за их пределами ничего не осталось, и то, что они разграничили, стало миром-в-себе, абсолютом. ШОПЕНГАУЭР счастливо нашел тайные ворота, ведущие в запретную страну, и теперь пишет там стихи так же прекрасно, как писали внутри Фихте, Шеллинг и Гегель. Наконец, пришли материалисты и вполне комфортно устроились на вновь открытой земле. Уже не с таким воображением, как Шопенгауэр, который, как бы, все еще сознавал, что стоит на запретной земле, но гораздо спокойнее и хладнокровнее, как если бы они находились на законной своей территории, пока, наконец, они не вспомнили, что нарушили священные границы, и крик: «Назад на разрешенную территорию, назад к Канту!» прозвучал все более настоятельно и мощно. Кантианство не выполнило своей задачи. Оно лишь привело к неоправданному превышению очерченных им границ, в которые философия не хотела замыкаться, поскольку ее настоящая территория лежит за пределами. Неокантианство, а вместе с ним и родственные ему школы мысли – позитивизм и неокритицизм – пытаются заново ввести это ограничение. Но даже сегодня философия вряд ли позволит вырвать себя из своего собственного поля мысли. Возвращение к кантовской позиции вряд ли приведет к ее сохранению, скорее, к оправданному выходу за ее пределы в отличие от прежнего неоправданного, к сотрясению пограничных стен и их разрушению, а не как это было в прошлом, к ползанию вокруг границ или перепрыгиванию через них. Призыв: «Назад к Канту!» наиболее оправдан, когда он звучит так: «Назад к методу и задаче Канта по поиску границ возможного знания». Возможно, это покажет, что они не должны быть проведены так узко, как полагал Кант. До тех пор, пока это не будет показано, трансцендентальной философии не существует. Поэтому только возвращение к Канту может вывести за пределы этой философии. Неокантианство, похоже, не движется в этом направлении. Его основные представители довольствуются тем, что объявляют некоторые из богатства великих кантовских мыслей существенными и фундаментальными, другие – второстепенными, принимают одни его взгляды и отвергают другие. О серьезном дальнейшем развитии, а прежде всего о расширении границ познания, говорить не приходится. Таким образом, представляется оправданным предположить, что неокантианцев объединяет мнение о том, что эти границы неподвижны. Поскольку я уже подчеркивал, что это означает для философии, критика этой точки зрения просто необходима. Я намерен осуществить ее, обратившись, в частности, к ОТТО ЛИБМАННУ, одному из первых и наиболее значительных представителей неокантианства, поскольку мышление ЛИБМАННА наиболее впечатляюще демонстрирует неизбежное стремление к запретной метафизике, и потому, что по этой самой причине он уже намекает, пусть даже бессознательно, на путь, который может вести за пределы Канта. Сам он не пошел по нему. Многие кантовские догмы оказали на него слишком сильное влияние.