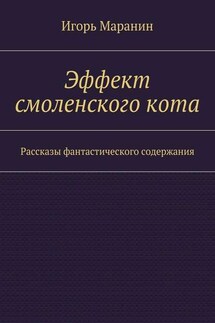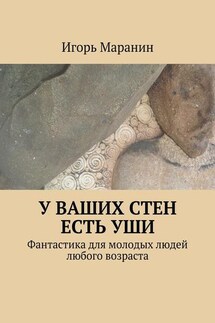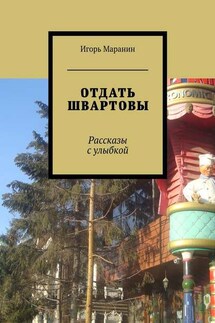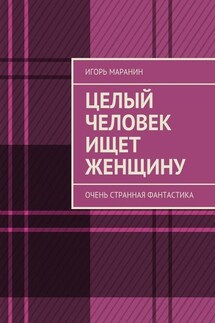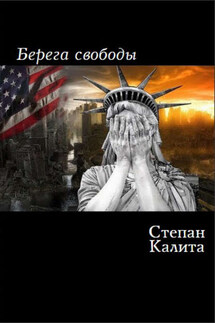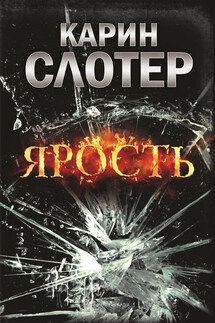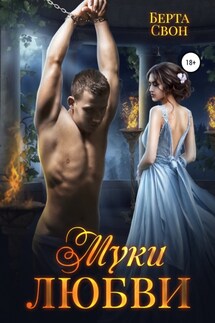Мрачный дом по улице Красноярской
Чем старше я становлюсь, тем чаще копаюсь в пыльном мешке своей памяти, пытаясь обнаружить там что-нибудь необычное. Мешок этот не имеет дна, его нельзя перевернуть и высыпать содержимое на пол. Остаётся только засунуть руку внутрь и попытаться найти воспоминание на ощупь. Слава Богу, среди них совсем мало зубастых чудовищ, способных откусить руку по локоть.
Я почти не помню свой первый дом: только часть комнаты с окном, выходящим в огород. Воспоминанья эти не столько видимы, сколько ощущаемы: горячо от русской печи в углу, мрачно от тусклого света в комнате, страшно от вешалки с верхней одеждой – свои плащи и пальто снимали и оставляли там незнакомые взрослые гости.
Чуть больше я помню двор: перевёрнутую вверх дном металлическую лодку, лежавшую на специальных подпорках – так, что под неё можно было забраться, как под навес (может быть, память моя такая же фантазёрка, как и воображение, но мне кажется, однажды я спасался под этой лодкой от дождя). Высокие деревянные ворота, через которые могла пройти лошадь с подводой. Ни лошади, ни подводы в мешке моей памяти нет. Просто тот дом был гораздо старше меня —вероятно, его построили ещё до революции: в этой части города на рубеже девятнадцатого и двадцатого веков оседали переселенцы. Перпендикулярно улице 1905 года (тогда – Переселенческой) одна за другой появлялись улицы Омская, Томская, Иркутская, Енисейская, Красноярская… Мы жили на Красноярской. Отопление было печное, «удобства» – во дворе (стоило задуматься об этом, как в памяти всплыл ночной горшок, но, пожалуй, я оставлю его в мешке вместе с содержимым). Воду возили из колонки, и это подарило мне одно из самых ярких детских воспоминаний: заснеженная улица Красноярская, сани с флягой и со мной в придачу, и северная лайка Рафа, запряжённая в них, словно настоящая ездовая собака. Ехать приходилось далеко – до улицы Железнодорожной и по ней направо – до Бурлинского переезда, который ещё долгое время казался мне неким сказочным местом, переходом в иной мир за железной дорогой. Сейчас я думаю, что были наверняка колонки и ближе, просто взрослые устраивали прогулку для меня и для Рафы.
Со всеми домами, дачами и квартирами, где я жил (а переезжали мы не раз и не два) у меня складывались особые отношения. Я их чувствую кожей и сердцем: кожей – опасность, сердцем – любовь и защиту. Точно так чувствовал свою пещеру дикарь во времена одичания людей после Потопа. Может быть, это проснулось во мне через много поколений, а может быть, это присуще всем людям – не знаю. Первый дом был не просто чужим мне – он был чуждым. Что-то случилось в его прошлом, что-то нехорошее и преступное и так и не смылось вешними водами времени с изнанки, невидимой глазу.
О соседях я не помню ничего. Только очень смутно пространство за воротами дома, улицу, деревья и каких-то людей, вечно толкущихся у дворов через дорогу. После мрачноватого дома вынутая из мешка памяти улица видится яркой и залитой солнечным светом. Справа от ворот лежали, кажется, ошкуренные брёвна, а чуть дальше располагался перекрёсток с улицей Переселенческой.
Хозяин двора напротив имел большой богатый дом, несколько судимостей, хорошие связи и работал заведующим большим магазином. Это был пожилой, но ещё бодрый человек, который иногда заходил к нам в гости, приятельствовал с отчимом и даже иной раз выезжал с моими родителями на рыбалку. Жил он с дочерью священника Вознесенской церкви, девицей на двадцать четыре года себя младше. Брак этот был у заведующего не первым и не вторым, но скорее всего последним: дочь священника, в конце концов, сбежала с молодым адвокатом, а сам сосед постепенно спился.
Рядом с усадьбой заведующего стоял двухэтажный коммунальный дом, несколько просторных комнат которого занимала семья профессора. Родители мои общались с профессорским сыном, называя его странным именем Вилорик. Он пошёл по стопам отца, но ушёл недалеко: окончил институт и жил в своё удовольствие. Профессор с женой жили недолго, но умерли в один день, оставив после себя комнаты, огромную библиотеку и массу редких вещей, привезённых главой семьи из заграничных командировок. Их гибель стала настолько сильным потрясением для Вилорика, что он ушёл в долгий загул и вышел из него чуть ли не через год, когда участковый милиционер пришёл описывать имущество за долги. Милиционер окинул намётанным глазом обстановку (прекрасные комнаты, огромная библиотека, масса редких и дорогих вещей), затем исхудавшего небритого хозяина с ввалившимися глазами и мутным взглядом и предложил сделку: долг он берёт на себя, а Вилорику оставляет комнатушку, где до революции жила прислуга и (тут представитель власти великодушно махнул рукой в сторону книжных полок) возможность забрать с собой какую-нибудь редкость. Запуганный и мало соображающий хозяин («тюрьма—тюрьма—тюрьма», – стучал в голове молоточек) согласился. Он взял с собой тяжёлые и уродливые статуэтки, привезённые, по словам отца, из Индии. На пороге комнаты Вилорик остановился, будто что-то припомнив и вернувшись к отцовскому столу, выгреб оттуда в сумку все рукописи. Это было жалкое зрелище: небритый великовозрастный профессорский сынок, допившийся до чёртиков в глазах, покидал родное гнездо, одной рукой волоча за собой по полу сумку с вещами и рукописными тетрадками, а другой прижимая к груди многоруких индийских чудовищ. Наверное, в этот момент Судьба над ним и сжалилась. Со дна на поверхность Вилорика вытащил институтский друг. Вылечил от алкогольной зависимости, устроил на работу, заставил заниматься наукой. Отсудить обратно комнаты не удалось, милиционер оказался тёртым калачом, но с этого момента удача взяла над исправившимся сыном профессора шефство. Унесённые статуэтки оказались… золотыми, лишь покрашенными сверху для безопасности серебрянкой. А рукописи отца подтолкнули Вилорика и его друга к открытию, за что они получили самую настоящую научную премию. Вскоре он уже жил в новых апартаментах – и ни где-нибудь, а на главной улице города – Красном проспекте.