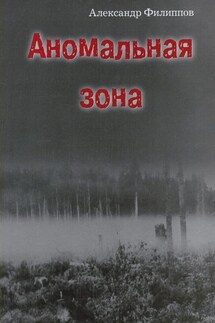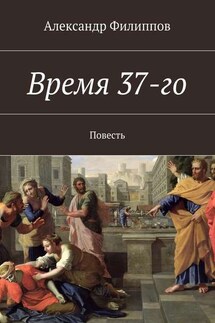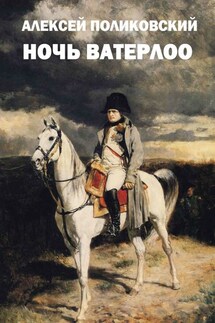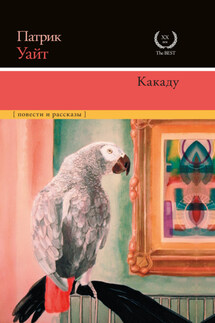Прием заключенных майор Самохин проводил в тесном кабинете на первом этаже колонийской школы. Стояла сумрачная, промозглая осень. Ветхое двухэтажное здание с полутемными классными комнатами, скрипучими полами и расшатанными партами, исцарапанными матерными надписями, будто пропиталось сыростью, было холодным и неуютным.
Пока наломавшиеся за день на производственных объектах зэки подремывали под монотонное бормотание равнодушных учителей, давно отчаявшихся посеять в их душах «разумное, доброе, вечное», старший оперуполномоченный – на зоновском жаргоне «кум» – Самохин собирал от своих стукачей информацию о прожитом колонией дне. Один за другим входили в кабинет заключенные, плотно прикрывали за собой обитую войлоком и облупившимся коричневым дерматином дверь, которая глушила не предназначенные для чужих ушей разговоры.
Майор терпеливо выслушивал сообщения агентуры, в большинстве своем пустяковые, не представлявшие оперативной ценности, – отголоски всяческих внутризоновских разборок, сплетен, – которые тем не менее заносил в толстый, засаленный, похожий на подгоревший пирожок блокнот. Наиболее важные сведения Самохин держал в голове, не записывал, ибо давно уже не доверял ни папкам со строгими грифами «совсекретно», ни приказам и распоряжениям за номером «с двумя нулями», ни стальным сейфам. Даже подшитая и спрятанная за хитроумными запорами, опечатанная в несгораемых шкафах конфиденциальная информация все-таки имела свойство непостижимым образом просачиваться в зону, и сообщивший ее «источник» за откровения с «кумом» мог поплатиться головой.
Вызывая осужденных, поставлявших сведения для оперчасти, Самохин перемежал их зоновскими блатными, «отрицаловкой» и в чем-то проштрафившимися «пахарями-мужиками», так что вычислить, кто и по какому делу побывал на приеме у «кума», было практически невозможно. Выходя, каждый зэк непременно ругал дотошного опера, при этом некоторые бережно придерживали припрятанные за пазухой пачки сигарет, чая – награду за ценное сообщение.
По молодости лет знание чужих секретов будило в Самохине эдакий охотничий азарт, служебное рвение. Сведения об ином, внешне добропорядочном человеке, товарище по работе, обескураживали порой, но со временем это чувство притупилось, и майор уже как должное воспринимал тот факт, что каждого, с кем доводилось ему встречаться в жизни, сопровождает невидимая стороннему глазу тень тайных слабостей, пороков или дурных поступков.
В кабинет бочком, осторожно протиснулся Денисов – пожилой толстый зэк с отечным бабьим лицом, по кличке Фекла, – и примостился на обшарпанном, крепко привинченном к полу табурете.
Когда-то, в другой жизни, Фекла был высоким партийным начальником, но погорел на взятках и схлопотал большой срок. Не выдержав тягот тюремного бытия, опускался все ниже и, наконец, превратился в заурядного зоновского «петуха». Этому, кстати, невольно поспособствовал генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев. Оказалось, что Фекла в свое время работал с ним в Ставропольском крайкоме партии и при случае любил щегольнуть перед зэками прошлым знакомством. Как-то, в очередной раз услышав восторженные рассказы Феклы о земляке-генсеке, местный «авторитет» по кличке Губа презрительно скривился и веско заклеймил хвастуна:
– Генсек, генсек… А ты, сука, гомосек! – и заржал своей шутке, определив тем самым Фекле нижайшее место в зоновской иерархии.
– Нашего петушиного полку, гражданин майор, как говорится, прибыло! – сообщил с тяжким вздохом Фекла. – Вчера вечером в третьем отряде лаврушник Батона опустил. И куда только администрация смотрит?
Самохин сразу вспомнил Батона – шустрого, встревавшего во всякие дела заключенного по фамилии Булкин. Последняя встреча майора с ним произошла дня три назад, в штрафном изоляторе, куда Булкин угодил за какую-то мелкую провинность. Тогда Самохин остановил дежурного прапорщика-контролера, который намеревался передать в камеру номер колонийской газеты – многотиражки «За честный труд», прозванной зэками «Сучий вестник».
– Заколебал меня этот Батон, товарищ майор! – пояснил прапорщик. – Передай, говорит, из бура газету, там, говорит, материалы пленума обкома партии напечатаны, изучать буду!
В отличие от помещений камерного типа – «бура» – в штрафном изоляторе газет не полагалось. Но у кого поднимется рука отказать осужденному в просьбе разрешить ознакомиться с партийным постановлением?!
– Из какой камеры бура газету передали? – поинтересовался Самохин.
– Из пятой…
– Ага… Мы сегодня туда Бобыря, кента его посадили. Дай-ка мне про этот пленум почитать…
Самохин подошел к окну, внимательно просмотрел газету и вернул прапорщику:
– Можешь отдать, пусть просвещается…
Вечером, незадолго до отбоя, майор опять заявился в ШИЗО.
– Батона когда освобождать будешь? – поинтересовался он у прапорщика.
– Срок его водворения через час заканчивается. Переодену, и пусть чешет в отряд.
– Ну-ка, приведи его ко мне, – приказал Самохин. Через минуту толстенький Батон, плутовато улыбаясь, стоял, заложив руки за спину, перед оперативником.