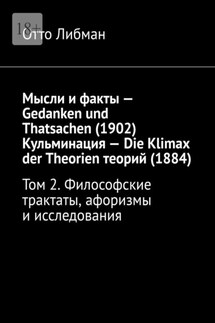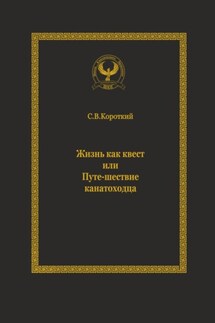I
Когда в 1865 году Либман выступил с лозунгом: «Мы должны вернуться к Канту», он выступил против метафизического догматизма как эпистемолог. И он оставался преимущественно эпистемологом, как по своим наклонностям, так и по направлению своих исследований, на протяжении всей своей научной карьеры.
Он не хочет, чтобы этот лозунг приписывался ему как личное достижение: с его помощью он лишь «дал точное выражение идее, которая в то время, так сказать, витала в воздухе» (A. 231).1
Конечно, если бы это было не так, то идея не имела бы того эффекта, что имела. Но тот факт, что именно Либман выступил с этим лозунгом, да еще в такой резкой, энергичной форме, неслучайно; он коренился во всей его интеллектуальной привычке. До него было достаточно критики догматических систем. Одна из них проницательно подмечала слабости другой, но никто не видел своих собственных. Каждый считал, что может опровергнуть своих предшественников, тем не менее был убежден, что возвел здание, способное выдержать бурю тысячелетий. И это при том, что он строил на том же основании и использовал те же материалы, что и те, кто был до него. Но именно так говорит или думает истинный метафизик: помимо него, только цепь ошибок, но он формирует поворотный пункт судеб времени как воплощение вечной истины. И то, что другие говорят столь же самонадеянно, беспокоит его так же мало, как верующего в откровение беспокоит тот факт, что другие религии тоже претендуют на откровения живого Бога. И вот в окружение этих метафизических архитекторов вступает Либман как подлинный эпистемолог и показывает им, что почва, на которой они строят, вовсе не способна выдержать дворцы науки, что их материалы состоят вовсе не из настоящих брусьев, балок и колонн, а только из – картонок, и что поэтому все их здания – это лишь карточные домики, которые сдувает даже малейший ветерок эпистемологической критики. Настоящий предмет критической философии он видит в «осуществлении правила, согласно которому человеческая спекуляция, прежде чем приступить к грандиозным, дальновидным построениям мысли, должна сначала дать отчет о том, насколько далеко простираются ее силы», в «ответе на вопрос: что я вообще могу знать?» (K 10—11). (K 10—11). В последовательном и верном своим принципам развитии критическая философия никогда не сможет стать трансцендентной (K 207).
Ведь трансцендентное – это «проблема, превышающая человеческое понимание», или то, «о чем мы ничего не знаем и ничего не можем постичь» (O 129—130). Он спрашивает: «Зачем нам искать проблемы в невозможной области, если бесчисленное множество их захватывает нас в реальной? Имманентные проблемы встречаются повсюду и постоянно умножаются с каждым шагом, на котором продвигается исследование знания. Чем больше содержание, тем шире границы. И это относится не только к эмпиризму; нет, к спекуляции, к философии. Так почему же мы хотим блуждать дальше, ведь благо так близко?». (K 208). Это «благо» – прежде всего эпистемология: он остался верен ей и по сей день. Он был предопределен для этого, поскольку в нем в изобилии сочетаются все качества, присущие эпистемологу, взятому, так сказать, в качестве примера. Либман – один из великих вопрошателей, один из тех, кто получает не меньшее – я бы даже сказал большее – удовольствие от постановки проблем, чем от их решения. Он часто ставит необходимые предпосылки для трансцендентального вывода прямо рядом друг с другом, не делая самого вывода; он стремится резко и точно сформулировать многие очень важные проблемы только как проблемы, но затем оставляет их нерешенными, хотя предположительное [предполагаемое – wp] решение было бы совершенно очевидным: последнее слово витает на его губах, но он его не произносит. Ему мешает сделать это, как он сам говорит, «определенная сдержанность, поистине священная робость». Ибо философ, если он не прорицатель, все же является рассказчиком истины; и часть этого заключается в том, что он не утверждает как определенное то, чего он не знает наверняка» (A 12). Я не знаю ни одного современного философа, который мог бы сравниться с Либманом в остроумии и четкой проработке сути вопроса. И при этом великое педагогическое искусство заключается в том, как он ведет читателя от привычного, повседневного в глубину, как он позволяет ему найти скрытые трудности в очевидном. Его рассуждения о фундаментальных эпистемологических проблемах обладают внушающей силой. Он заставляет нас сотрудничать, прислушиваться. Вот почему его труды так подходят для введения в философию! Для многих наивных реалистов его острые наконечники сомнений, возможно, уже пронзили тройную руду догматизма. Многие вопросы заставляют человека быть осторожным и критичным, но еще больше они требуют осторожности и критичности. Оба качества развиты в ЛибманЕ в превосходной степени. С ними сочетается потребность в самоанализе, в полной ясности относительно характера и масштаба предпринятых или предстоящих шагов. Отсюда его энергичное настаивание на строгом различении между данным и воображаемым, между фактами и интерпретациями, его большой интерес к методологическим соображениям и, прежде всего, к основной проблеме: вопросу о пределах, истинной ценности и степени достоверности человеческого знания. Здесь он непримирим: он радикально пресекает любые попытки научной метафизики трансцендентного, знание существует только о мире опыта и его условиях, сфера онтоса [бытия – wp] оставлена субъективной вере и воображению индивида. Философия для него, как и для Канта, является наукой о границах разума (A 6). Надежду на достижение окончательной философской дедукции мира он считает тщетной (A 11). Снова и снова он самым решительным образом указывает на многочисленные, вечно непреодолимые «имманентные барьеры человеческого разума», «о которых бездумный здравый смысл и недальновидная самоуверенность догматического метафизика ничего не знают или не хотят знать» (A 62; также 99, 112, 113, 160, 166, 194, G II 35, 50, 89, 105—106 и в других местах часто). Он смиренно и скромно предпочитает «покорное сомнение беспутному утверждению ради чистой истины» (A 113). Истинный метафизик, с другой стороны, «должен говорить категорически, потому что он хочет дать окончательное решение загадки мира; он не может поступить иначе. Он не должен допускать никакого противоречия, никакого сомнения, никакого недоверия, ибо предполагаемая абсолютность его точки зрения запрещает это». В действительности, конечно, догматическая метафизика – это вовсе не «объективно обоснованное знание, а вера, очень твердое, но все же чисто субъективное убеждение, как в религии; вероучение, которое легко ускользает от научной критики, истинность которого можно только почувствовать, ощутить, но, подобно красоте произведения искусства, никогда не может быть строго доказана» (Kl 61, 62, ср. A 251). Причины для принятия решения в этой области субъективны: «там, где наша строгая проницательность подходит к концу, эстетические наклонности, а иногда и моральные убеждения склонны бросить последний камень на чашу весов» (A 154). Аналогично G II 229 – 230 в отношении противопоставления теизма, пантеизма и атеизма: как человек думает о «возникновении многого из Единого», «что есть и остается, так сказать, делом эстетического вкуса и определяется больше склонностями, отвращениями, фантазией и эмоциональными потребностями, чем убедительными доводами разума».