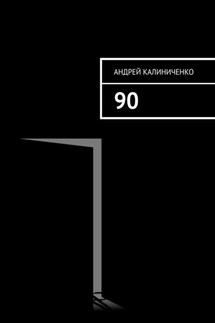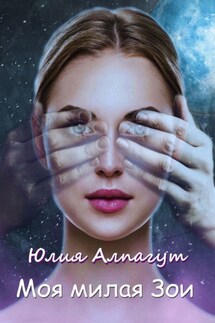Ублюдки тоже чьи-то дети…
Алтай 1995г.
«Удар!.. Еще удар!.. Иссушенный усталый разум будто во сне вычленяет холодный блик. Клин силится вспороть неподатливый камень, но лишь спустя… осознание застилает лязг металла о камень. Из раза в раз глухой перезвон твердого о твердое силится догнать движенье онемелых рук. Кажется, звук поселился в головах нескончаемым ворчаньем надломленной безумьем рынды.»
– Живее черти! – раздался за спиной сиплый голос.
Мужики, в видавших лучшие дни ватниках, попеременно колотили в каменную плиту преградившую путь. Пространства, для работы в проходе хватало лишь двоим, остальные без азарта ожидали в верхнем зале преисподней, который тот же голос почему-то звал пещерой.
Жидкий свет пары аккумуляторных фонарей с трудом рассеивал тьму ставшую осязаемой от каменного крошева. Пыль казалось заменила собой воздух: забивала легкие, скрипела на зубах, липла к мокрой от пота коже. Руки то и дело тянулись утереть едкие капли, но стоило грязному рукаву коснуться лица – зрение пропадало совсем, а глаза невыносимо щипало. Задержаться в этом предбаннике ада удавалось не более пары минут, когда становилось совсем невмоготу, пересиливая страх, с бранью и тяжелым кашлем, мужики выбегали в верхний зал, на смену им тут же спускались двое других.
Больше месяца, эта сипая сволочь таскает их за собой. Нескончаемые горы сменялись бесконечной тайгой, бескрайними долинами со множеством речушек… и снова горы, седые угрюмые горы, и кажется не наступит конец этой бесноватой чехарде. Они устали. Устали от холода, сырости местного климата. Кажется, этот кусок мира напрочь забыл о существовании весны. Времени, когда кожу ласкают первые по-летнему теплые лучи, а воздух вместо стерильного запах снега наполняет свежесть народившейся листвы.
Все они либо бездомные, либо из забытых деревушек. Еще не старые, крепкие, но никому не нужные, без семьи и родных. Кого-то он подобрал на вокзале и им попросту плевать на себя. За набитый желудок условились созерцать природу, и вместо ишаков тащить поклажу. Другие, ищущие смысл в вине. Егеря, охотники. Оставили нетопленые избы за пару бумажек юного цвета. Всего их собралось двенадцать.
Фома Егорыч, он же «Куль», как зовут его те двое с дорогущими карабинами, что постоянно трутся рядом, поначалу представился своим в доску – на деле оказался человеком редкой жестокости, относился к бедолагам чуть хуже, чем к домашнему скоту.
Лишь вертолет оставил группу, первым делом он отнял патроны у бывалых, оставил им пустые плети. Все действо случилось под бдительным присмотром нарезных стволов его подручных. Но даже тогда Куль проявил себя не в полной мере, и люди в отведённый договором срок все еще ощущали себя людьми. Когда же по истечению десяти дней он не свернул домой, продолжил двигаться маршрутом бессмысленным и одному ему понятным – на привале зароптали.
Фома Егорыч устроился у огня, отрешенное лицо обратилось к затухающим всполохам, подле торчала рукоять топорика воткнутого в бревно, на котором сидел: древко инструмента часто секли застарелые ранки, грубо оставленные ножом. Шаги за спиной он услышал много раньше смущенного кашля, призванного обратить внимание. Ответить на тяжелый взгляд Фомы осмеливался редко кто, разве что Лука, да и тот не от большого ума: для этого усатого верзилы с его жестокой незамысловатостью авторитетов не имелось вовсе. Вот и сейчас за спиной мялись в нерешительности два немолодых мужичка, виновато рассматривали под собой землю.
– Фома Егорыч, домой пора… Уговор… Еще давеча поворотить должны были… – мужик говорил тихо усталым голосом завсегдатая питейных, грязные мозолистые пальцы нервно теребили пуговицу рукава фуфайки.
Ответа не последовало. Ходоки украдкой переглянулись. Вновь заговорил тот же мужичек, глаза исподлобья уставились в плечистую спину заслонившую костер. Он будто решил, что со слухом у Фомы Егорыча совсем не хорошо – слова зазвучали громче и резче, голос зазвенел нарочитым недовольством, а ссутуленная спина распрямилась точно из-под скалки… но как ни старался бедолага казаться убедительным, за ширмой протеста основательно дребезжал мучавший его страх.
– Домой пора. Мы договаривались на восемь дней. Люди уста… – слова застряли в глотке мужичка, ощутившего на себе пронзительную пустоту немного раскосых глаз.
Фома Егорыч развернулся, недобрый взгляд вперился в две оробелые тени. Мгновение он смотрел на них словно волк на пыряющих его ягнят. Затем ловко подхваченный топорик обухом смял череп юродивому, что в безумии своем дерзнул потребовать. Нечесаная в патлах голова раскололась точно упавший на асфальт арбуз. Лицо и фуфайку второго парламентера обрызгало бурым. Мужичек застыл будто насаженный на кол, в широко распахнутых глазах замерло непонимание: «товарищ вдруг осел на землю точно вынули все кости, по его щекам стекает что-то горячее и густое, и еще – он почему-то не может шевельнуть головой». Глаза скосились к плечу, круглые бляхи белков заполнил ужас. Краем зрения бедолага уловил металлический блеск. В скуле под виском глубоко увязло лезвие топорика. Куль подошел к каким-то чудом державшемуся на ногах мужчине, бесцеремонно дернул рукоять. Лишь когда лезвие высвободилось от плоти – кроны деревьев разорвал надсадный вопль.