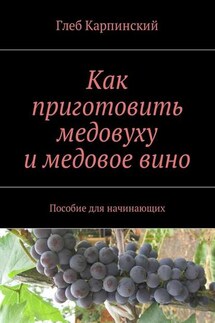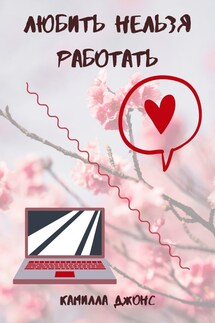Одна хорошая женщина прозябала на хуторе. Жила она тогда в саманной хате с соломенной крышей, топила печку сушеным навозом и часто могла созерцать в окошко, с умилением подложив под подбородок ладошку, как за забором щиплют разросшийся виноград соседские козы. Стоит сказать, что женщина эта была красивая, духовно одаренная, к тому же очень правильная, но при таких несомненных достоинствах так и ни разу не вышла замуж и вела жизнь одинокую, с девичьей тоскливостью. Может быть, именно на этой благодатной почве сублимации сексуальной энергии и проклюнулись первые ростки еще не признанного таланта, и стала она писать стихи почти каждый день и помногу, выкладывая их в сеть.
Преимущественно эта была первоклассная любовная лирика с животрепещущим описанием природы и деревенского быта, элементами фольклора и всегда со строгим соблюдением определенной стихотворной формы и размера. Кроме того, все эти четверостишия, льющиеся из сердца нашей провинциальной красавицы сладким нектаром, имели схожую сюжетную линию, а именно везде мелькал и маячил образ благородного рыцаря, обязательно неженатого или, на худой конец, обремененного семейными заботами. Вот отчего его милое небритое лицо в первую встречу их воображаемого знакомства показалось читателям особенно бледным, утомленным и загадочным, а сам бедняга едва держался в седле на какой-то полудохлой кляче и скромно просил чашку воды и краюшку черствого хлеба. В следующий раз рыцарь предстал уже более настойчивым, требуя крынку молока и непременно со сливками, а также сдобные белые булочки, косвенно намекая на аллегорию с пышной грудью хозяюшки. Потом аппетит его так улучшался, что он прискакивал уже на боевом коне в золоченых доспехах, брал махом покосившийся забор и так размахивал своим мечом во дворе нашей поэтессы, что случайно попадающие под его горячую руку куры лихо обезглавливались и тут же ощипывались. При этом для придания общей интриги главную героиню сего замысловатого сюжета каждый раз застигали врасплох. То она заплетала косички, сидя у окна и вспоминая какую-то забытую песенку, то полоскала на виду у всех в неглиже белье в тазике, а то и вовсе возилась с кроликами, изучая их повадки во время спаривания. В общем, каждый раз, когда должен был проезжать этот вовсю уже распоясавшийся рыцарь, род деятельности дамы его сердца менялся, и неизвестно чем могло все это закончиться на литературной ниве, если бы однажды поэтесса не получила приглашение в Москву на творческий вечер, где ей обещали в торжественной обстановке вручить членский билет Союза российских поэтов. Все это не могло не побудить зачуханную деревенской жизнью поэтессу к активным действиям, и она тут же собрала чемодан и отчалила на первом транзитном автобусе, каким-то нелепым чудом заплутавшем в ее безрассветной глуши по испорченному навигатору.
Так она вскоре очутилась в столице и какое-то время ошивалась на вокзале, подарившем ей целую уйму новых впечатлений. После чего ее рыцарь кушал уже сосиски в тесте, непременно политые двойной горчицей и кетчупом и запивал все пивом, в газетных киосках требовал журналы Playboy с кроссвордами, и, в конце концов, утомленный разгадыванием, падал под лавку, постелив себе под щеку свои запыленные неблизкой дорогой доспехи, чтобы не украли. Никакого боевого коня у него уже не было, а на справедливый вопрос дамы сердца: «Где же конь, рыцарь?», объяснял, что в Москве старомодно ездить верхом, да и вообще не принято ни перед кем отчитываться, кроме налоговых органов.
Так уж случилась, что ожидающая своего звездного часа поэтесса решила побродить по городу недалеко от вокзала, чтобы полезно скоротать время. Чемоданчик у нее был легкий, а настроение тяжелое. Ведь вокзал для приезжих провинциалов всегда является неким ориентиром, центром Вселенной, и только представьте состояние утонченной и чувствительной ко всем неладам нашей гостьи столицы, когда она так увлеклась архитектурой Щусева, что позволила себе заблудиться. К тому же, спросить нужную дорогу было не у кого, так как более-менее приличные прохожие спешили куда-то, а бродившие по близости орды оказались туристами на одно лицо, лопочущими на непонятном наречии. Именно тогда благородный рыцарь из фантазий нашей поэтессы стал приобретать дикий нрав степняков, желтизну кожи, и даже некую скифскую раскосость глаз.
– Как дойти до дома российских поэтов? – спрашивала она напрасно у одного из них и на английском, и на французском. – Я опаздываю на творческий вечер.
Но степняки радостно улыбались, будто были рады, что она заблудилась, щелкали ее фотоаппаратами на память, снимали бедняжку на камеру и, в конце концов, предложили встать с ними в общую гигантскую очередь, ведущую к платным туалетным кабинкам синего цвета.
Поэтессе, и вправду, приспичило после выпитых незадолго до этого двух бутылочек пива, и ее блуждающий взгляд искал укромное место. Но не делать же такие интимные дела на скошенных городских газонах? И она впервые с ностальгическим чувством вспомнила свой вмиг осиротевший с ее отъездом хутор, его могучие просторы, и каждый куст калины, под которым можно было присесть и ни о чем не думать… И сейчас, в окружении чуждых ей этих все время улыбающихся кочевников, у нее невольно создавалось впечатление, что в той дальней заветной синей кабинке показывают всем поочередно какую-то жуткую трагикомедию, и каждый, заходя туда, рискует утонуть от переизбытка естественных надобностей. Но все равно она какое-то время безропотно стояла, а образ ее благородного рыцаря мельчал и опускался ниже плинтуса, пока не превратился в мычащего пьяного бомжа, распластавшегося на ступеньках великолепного здания в стиле рококо с башенками из красного кирпича и с неоновой вывеской «Стоматология».