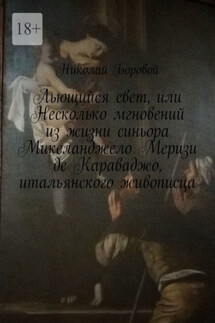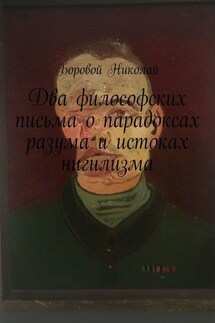Драма-роман в трех актах
Микеланджело Меризи де Караваджо, итальянский живописец.
Марио Минитти по прозвищу Сицилиано, итальянский художник и друг Караваджо.
Кардинал Франческо дель Монте.
Мирелла, или же Элен, куртизанка и проститутка.
Джордано Бруно.
Д`Арпино, Галло, Цукарро, Грамматико и Джентилески – известные итальянские живописцы.
Бартоломео Манфреди, Спада и Марио дель Фьоре – итальянские живописцы и ученики Караваджо.
Прохожие, проститутки, хозяйка трактира Анна-Мария и его посетители. Народ возле Кампо-дель-Фьоре. Стражники и папский квестор. Нищие и зеваки.
Риччо, то есть Рикардо Франделли – порученец герцогского дома Строцци в Риме, любящий выпить и помахать шпагой человек возраста самого Караваджо.
Монтанелло, секретарь кардинала дель Монте.
Папа Павел V
Таддео Ордолизо, его личный порученец и секретарь
Сцена погружена в полный мрак, из которого доносятся далекий шум моря и чуть более сильный и близкий шум селения, а кроме того – хрип и тяжелый кашель. Так длится какое то время. После – откуда-то сверху пространство сцены начинает заполнять луч лунного света, в котором проступают типичное итальянское селение с развалинами чуть поодаль, придорожная канава и возле нее – прислонившийся к стволу дерева, тяжело кашляющий и с трудом пытающийся надышаться человек. Это Караваджо.
Караваджо. (после очередного приступа кашля) Проклятье!… Душа это что ль выходит в последние минуты вместе с кровью, которую из меня тянули всю жизнь безжалостно… (Вновь заходится в кашле) Да, всё… это конец… Всё говорит о том. Еще никогда грудь не была так сперта, а слабость не сбивала с ног и заставляла мир, словно танец Вельзевула, крутиться в глазах… (Молчит какое-то время). Всё кончилось, синьор Микеле, последий мазок своей жизни ты вынужден сделать тут… (несмотря на просящийся кашель и тяжесть дыхания, произносит далее с сарказмом и попыткой засмеяться) Умирать в сточной канаве, на обочине деревенской дороги!… (стискивает с яростью зубы и начинает то ли рычать, то ли выть, ослабевает) … Остался бы у моря… хоть соль в ветре немного бы ласкала ноздри и горящую грудь, и было бы не так душно… а волны придавали бы сил и мужества душе… Ушел бы и сгинул безвестно, быть может – грядущим штормом был бы забран волнами в уходящую к Сицилии даль… Оставил бы не могилу, а полотна и имя… А может, обглодали бы собаки… Бесславно, горько… Словно плюнуть себе в лицо смертью, прожив короткую, полную страстей и борьбы, но достойную жизнь. А дополз бы – меня конечно похоронили бы по людски… Зря что ли Папа всё-таки обещал буллу о прощении… (начинает с горечью и зло смеяться, а потому вновь заходится в долгом кашле и судорожных вдохах). О, проклятый Павел… Лживая лиса… Убийца с маской праведности на лице… Муж-тиран, до смерти мучающий жену, но ото дня в день ставящий свечку в кьезе свечку и верящий в место в раю… Если ждет суд Господень, а не тьма и пустота, которую так часто рисовали за жизнь мысли, то тебе и прислужникам твоим, тысячам наивных «простецов», худших, нежели римские бретеры, рьяно рвущих на куски по твоему велению или орущих возле устроенных на Кампо-дель-Фьоре костров, суждены вечные муки ада, хоть говорите и творите зло вы от имени Господа и райских кущей, благочестиво крестясь… Я скоро узнаю, что есть истина… О, боже… Умереть в сточной канаве, мне… (невзирая на все начинает в голос, сколько есть сил кричать) Мне!! Написавшему Казнь Святых Петра и Павла… Миреллу, навечно оставшуюся образом Мадонны, судящей трусливых, преклонивших перед ней колени скотов или почившей с миром… а моя Юдифь… А святой Иоанн-Креститель, светом и чистотой линий вышедший прекраснее молодой Богоматери или какой-нибудь флорентийки у Джордоне и Рафаэля! А как ломали умы над загадкой света, непонятно откуда падающего на лицо мальчишки Чиччоно, сына трактирщицы… А мой Матфей! (заходится в кашле и ослабевает, но внезапно немного успокаивает дыхание) А мой Матфей!! Линии и свет, ставшие языком вечной истины… Кто сумеет понять, благословит мое имя… А кто нет, будет просто стоять завороженный, чувствуя великую, но недоступную загадку… А десятки других холстов… Многие из вас канули безвестно, но я помню, как рождался во мне каждый… Искры мыслей и чувств, ставшие линиями… Люди и события судьбы, превратившиеся в лики святых и мучеников… У меня нет детей, но вас, детей моего духа, моей мучавшейся и творившей долгие годы души, привел на свет я… навсегда… Я родил вас, трудом и любовью души, которая сейчас сочится болью… Умирая в придорожной канаве, вижу вас и спокоен, сколько вообще дано человеку… Я должен был, мог еще пожить… Я мечтал написать «Голгофу»… Распятый миром человеческий дух… Любовь, казнимую адской прихотью рабов… быть может самое главное… Я мог купаться в золоте, есть досыта и спать в тепле, а умираю в канаве возле забытой богом деревни и буду обглодан собаками, если только рыбак чудом не найдет меня раньше, потащившись с рассветом к барке… Потому что вы боялись моего света, ненавидели его… Ибо в ваших осененных распятием душонках царил мрак… И только мои дети, рожденные где-то в душе, а после – руками, дарят мне в эти минуты силы, достоинство… (